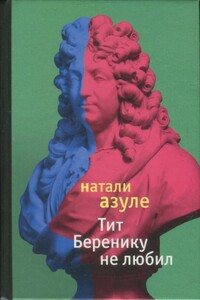Небрежная любовь | страница 23
Он говорил, шептал, целовал ее руки, вздрагивая от холода, теснее обнимал ее, а сам с пронзительной обреченностью чувствовал, какой долгий, мучительный труд ждет его впереди, как много терпения, ласковой настойчивости, а главное — желания ему предстоит в себе найти, чтобы его любовь стала для нее новой, совсем другой жизнью, и в этой жизни наградой бы ему стало все то лучшее, что таилось в ней, в этой совсем еще юной, невинно шалившей девчонке. Он понимал теперь, что мало было отрешиться от своей прежней, невыстраданной, небрежной любви к ней, мало было и умилиться ею, мало было ее пожалеть. Надо было найти, вдохновиться, в тяжких трудах обыденной жизни взрастить в себе какую-то иную, настоящую любовь, которая соединила бы его и с ней, и с этим угрюмым, стынущим в предрассветном тумане краем, который был все-таки для него родным, и со всей этой могучей, знаменитой, сложной, жалкой, нелепо огромной страной, к которой он был до сих пор, в общем-то, равнодушен...
Склонясь в груде разваленных книг, папок, бумаг над случайно найденной старой тетрадью, он вспоминал теперь, через много лет, этот свой порыв со сложным, мало понятным ему самому чувством удивления, горечи и восторга. Он думал о том, что люди обычно стыдятся плохого, некрасивого, ошибочного в своей судьбе, не любят вспоминать поступков, в которых они выглядели хуже, чем есть. Но почему тогда ему было горько и стыдно сейчас, когда он вспомнил, оживил в себе пусть не изысканно-прекрасные, но такие понятные и искренние юношеские метания — бурные, страстные, нетерпеливо-путанные и отчаянные попытки обрести, открыть какой-то высший порядок, которому подчинен человек и все мироздание? Он перебирал исписанные черными и синими чернилами страницы, на которых размышляли, вещали и разглагольствовали звезды джаза, политики, ученые, журналисты, интеллектуальные светила разных эпох, среди которых были Лев Толстой, Блез Паскаль, Норберт Винер, Норман Мейлер, Федор Достоевский, Мартин Лютер Кинг, и словно в машине времени покручивал перед собой тот извилистый трудный путь, который ему когда-то довелось пройти впервые и который он потом неоднократно повторял. Да, он, пожалуй, понимал, что именно заставляло его испытывать ныне горечь и стыд: это было угнетающее сознание повторяемости некогда открытого им пути. Много раз после той ночи он забывал, терял, бросал найденное, изменял ему, путался и вновь, казнясь и страдая, открывал его, каждый раз изумляясь и благодаря судьбу. Ему все время казалось, что озарение, сошедшее в его душу, является если не в первый, то, может быть, всего лишь во второй раз, что теперь он действительно начинает жить как бы снова и потому имеет естественное право на ошибки... Но сколько можно было путаться, блуждать? Сколько можно забывать, опять искать, вновь открывать и опять терять открытое? Или это и есть жизнь с ее неизбежными лабиринтами и тупиками?