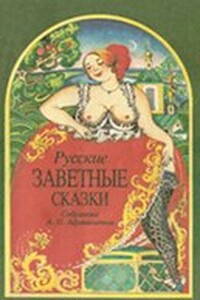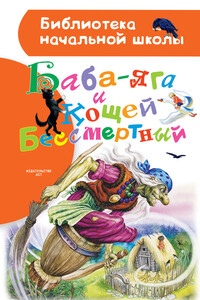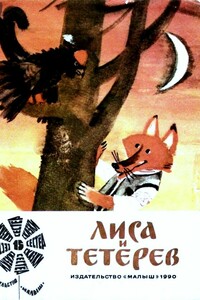Еврейские народные сказки. Том II. Сказки евреев Восточной Европы | страница 73
Культурный, исторический и литературный контекст
Данная сказка — вариация повествовательной темы XIX в., ведущей свое происхождение из Талмуда, мидрашей и средневековой традиции и часто именуемой, согласно Раши, «стремления милосердной души» (ВТ, Синедрион 106Ь). В большинстве версий благие дела вознаграждаются почетным местом в раю (фольклорный сюжет 809*—*А [ИФА] «Спутник в раю»), тогда как в настоящей сказке и ее аналогах вознаграждение заключается в почетных похоронах (фольклорный сюжет 759*D [ИФА] «Три примера щедрости»). Аналогичное вознаграждение описано в средневековом рассказе XII в. «Сефер Шаашуим» («Книга развлечений») Йозефа бен Меир ибн Забара (р. ок. 1140) [1].
Похороны и общественное положение
И средневековая история, и настоящая сказка подчеркивают особый аспект похорон, не признаваемый религиозным нормативным правом и положениями, но тем не менее во многом составляющий неотъемлемую часть социальной практики, а именно — похороны как средство социального регулирования. Следование общественным ценностям находится в прямом соотношении с уважением, оказываемым на похоронах. Избегая похорон, ребе Леви-Ицхок из Бердичева стремился не участвовать в дифференциации членов общины по уровню социального признания.
Благотворительность
Сравнительно поздние версии данной сказки также несут в себе принцип «тайной благотворительности», наиболее ценной формы благотворительности в еврейском обществе. Согласно раввинистической традиции, такая тайная благотворительность была не просто идеалом, но практической формой филантропии во времена Второго храма. «В Храме было две комнаты, одна для тайных даров, другая для сосудов. В комнату тайных даров боявшиеся греха люди тайно относили свои дары, и неимущие, которые были потомками благородных, тайно получали средства оттуда» (Мишна Шекалим 5:6; Сифре Рее, № 117, с. 176).
Позднее, возможно к началу раввинистического периода, тайные пожертвования приобрели идеалистическую и метафорическую форму благотворительности. Не только, как сказал рабби Аси (кон. III — нач. IV в.), «благотворительность равна всем прочим религиозным заповедям вместе взятым» (ВТ, Бава Батра 9а), но, как сказал рабби Элеазар (II в.?), «человек, чья благотворительность остается в тайне, более велик, чем Моисей, наш учитель» (ВТ, Бава батра 9Ь).
В рамках повествований данного цикла выделяют два подтипа: первый относится к актам благотворительности, второй — к благодетельному поведению.