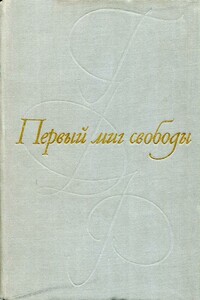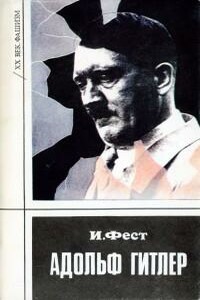Москва – Берлин: история по памяти | страница 54
— Что все эти люди делают здесь, на почте?
— Посылают хлеб родным, — ответила Хильда, словно это само собой разумелось. — Как Шура, я же тебе рассказывала.
От этого объяснения меня пробрал ужас, сродни тому, какой я ощущала всякий раз, когда на вокзале или на колхозном рынке видела оборванных крестьян, которые покорно сидели у своих свертков, или беспризорников. Чувство это напоминало тошноту: судорожно сжимался желудок, накатывали страх и отчаяние. Неужели все было напрасно, неужели не оправдались надежды на богатую, счастливую жизнь при социализме? Но эти приступы отчаяния причудливым образом проходили так же быстро, как и накатывали. Разумеется, утешала я себя, скоро кризис будет преодолен. Но в ту пору я, жившая в гетто коминтерновских функционеров, не имела никакой возможности увидеть размах кризиса, о котором рассуждала. Слухи о голоде были для меня всего лишь пугающими вестями из неведомого мира. И все-таки я доверяла таким людям, как Перси и Хильда, которые рассказывали мне подобные истории. В то время я уже не могла запросто назвать их контрреволюционерами, как тремя годами раньше — Панаита Истрати. Но мир, в котором свирепствовал голод, жестокий, косящий людей голод, не имел ничего общего с моей повседневной жизнью. Иногда я раскрывала «Правду» или «Известия», и Хайнц зачитывал мне что-то вслух (ведь я едва могла связать два слова по-русски), но о бедственном положении на селе там никогда не было речи. Словно в редакции и не слышали ничего о голоде. Эту тему в прессе ни разу не затронули. Позиция газет всегда была одинаковой — читателю неустанно твердили, что Советский Союз стремительно двигается в светлое будущее, а его граждане постоянно помнят о своем общественном долге и исполняют этот долг с радостью в сердце, под знаменем надежды. Чаще всего в печати и в устных выступлениях встречалось слово «прогресс». В ту пору ходил один безобидный, но очень показательный анекдот (конечно, рассказывающий намекал, что шутка «троцкистская»). Якобы на торжестве, посвященном новому, 1932, году, где собрались старые большевики, встал Бухарин и произнес такую речь:
— Товарищи! Только что завершился 1931 год! Начался год 1932-й! И я спрашиваю вас, товарищи: разве это не прогресс?!
Летом 1931 года Сталин произнес речь, которая повлекла за собой фундаментальные изменения в жизни советских граждан, проводимые под лозунгом «Против уравниловки!». Я тогда еще не знала, что в результате борьбы против «уравниловки» различия в оплате труда достигнут немыслимых размеров и таким образом из людей в Советской России постараются выжать более высокую производительность. Странные последствия этой кампании я наблюдала только в столовой «Люкса». В один прекрасный день заднюю часть столовой отгородили большой занавеской, и удивленные работники Коминтерна узнали, что отныне функционеры с «более высокой» ответственностью будут вкушать еду несравнимо лучшую, нежели большинство рядовых сотрудников, рабочих и домохозяек — эти будут питаться еще хуже, чем раньше. Дисциплинированные сотрудники Коминтерна безропотно подчинились этим «социалистическим требованиям», да и не только они — по всей стране творилось то же самое.