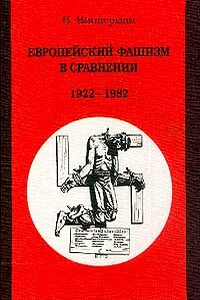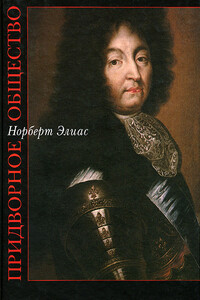О процессе цивилизации | страница 24
В другом месте своей итоговой работы «La société féodale» он пишет: «Конечно, знание „антецедентов“, т. е. сходных феноменов, предшествующих рассматриваемым, представляет интерес для историка, это весьма поучительно, и мы тоже будем к ним обращаться. Но эти „антецеденты“ не представляют собой единственные и даже наиболее важные факторы. Речь идет не о знании того, откуда берутся „élément féodal“ и где нужно искать их первоистоки — в Риме или у германцев, а о том, почему они приобрели „феодальный“ характер. Они приобрели основополагающий характер благодаря эволюции, и их тайну незачем отыскивать в Риме или среди германцев… Их формирование является результатом работы сил, которые можно сравнить только с геологическими силами»[23].
Употребление образов из области природы или техники неизбежно, пока в нашем языке еще не выработалась специальная и ясная терминология для описания социально-исторических процессов. Понятно, почему историки поначалу обратились к образам из других областей: они хотели показать принудительный характер социальных процессов. И какие бы недоразумения ни возникали от того, что социальные процессы с присущей им принудительностью, рождаемой из взаимосвязями между людьми, приравнивались по своей природе и сущности к вращению Земли вокруг Солнца или к движению двигателя, в этих формулировках недвусмысленно присутствовала новая структурно-историческая постановка вопроса. Вопрос о том, как поздние институты относятся к сходным институтам, характерным для более ранней фазы развития, сохранил свое значение. Но главным в историческом исследовании оказывается иной вопрос: почему изменяются институты, поведение или аффекты, и почему они меняются именно таким образом? Этот вопрос приводит нас к признанию наличия строгой упорядоченности в социально-исторических трансформациях. До сих пор не всегда хорошо понимают, что эти трансформации следует выводить вовсе не из чего-либо остающегося неизменным, что в истории вообще нельзя найти изолированных фактов, существующих сами по себе, — они всегда переплетены с другими фактами.
Такого рода трансформации непонятны и в том случае, если при их объяснении мы ограничиваемся рассмотрением изложенных в книгах идей отдельных лиц. Если вопрос ставится о социальных процессах, то принудительность нужно искать во взаимосвязи человеческих отношений, в самом обществе, придающем принуждению определенные формы и направленность. Это относится и к процессу феодализации, и к процессу растущего разделения труда, и к бесчисленному множеству других процессов, которые наш понятийный аппарат лишает процессуального характера, фиксируя лишь институты, сформированные тем или иным процессом, — например, «абсолютизм», «капитализм», «натуральное хозяйство», «денежная экономика» и т. п. Но за всеми этими понятиями стоят изменения в структуре человеческих отношений — изменения, явно не планировавшиеся индивидами, которые вынуждены были подчиняться этим изменениям, нравились они им или нет. Наконец, это относится и к изменениям самого человеческого habitus’a, к процессу цивилизации.