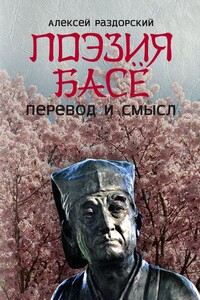Шекспировские чтения, 1977 | страница 41
Эдуард Кэппел ограничился "монтенизмом" в "Буре". Через пару десятилетий больше интереса вызовут "монтенизмы" в трагедии "Гамлет" настолько больше, что проблема "Шекспир и Монтень" сужается до проблемы "Монтень и Гамлет".
В 1828 г. в журнале "Westminster review" опубликована была статья Джона Стерлинга. Хотя в образе Гамлета, писал он, есть кое-что родственное Монтеню, он в отличие от французского писателя, сохраняющего душевное равновесие, крайне возбужден обстоятельствами, непосредственно затронувшими его. Как личность Гамлет выше Монтеня, его эмоциональность передается нам и сегодня. "Частица духа самого Шекспира", Гамлет - "феномен, более значительный, чем весь Монтень". Развенчан автор "Опытов" - с позиции "карлейлевско-христианской" - и как верующий: "Все, что мы находим у Монтеня о христианстве, подошло бы скорее для обезьян и собак, чем для разумных и нравственных существ" {Очерк Стерлинга 1828 г. дан как приложение в кн.: Pels Jacob. Shakespeare and Montaigne. London. 1884.}.
Реальный человек - Монтень и художественный образ - Гамлет у Стерлинга противопоставлены друг другу к невыгоде первого. В исследовании Джэкоба Фейза "Шекспир и Монтень" Гамлет и автор "Опытов" характерами не отличаются, к чему якобы и стремился драматург. Любопытен подзаголовок этой книги: "Попытка объяснить тенденцию пьесы "Гамлет" в намеках современной ей литературы". В своей книге Фейз пишет: "Сочинение Монтеня резко дискредитировано в акте II, сцене 2, где на вопрос Полония, что Гамлет читает, следует его ответ: "Слова, слова, слова".
В самом деле, Шекспиру не могло не претить, что "сатирический плут" заполняет бумагу такими рассуждениями ("Опыты" целиком состоят из подобной никчемной болтовни) вроде: "...у старых людей седые бороды, лица их сморщены, глаза источают густую камедь и сливовую смолу, у них полнейшее отсутствие ума и крайне слабые поджилки; всему этому, сударь, я хоть и верю могуче и властно, но считаю непристойностью взять это и написать". Понимание Шекспиром миссии писателя отличается от содержания книги, которую Гамлет характеризует восклицанием: "Слова, слова, слова".
Если даже Полоний уловил, что "хоть это и безумие, но в нем есть последовательность", то публике театра тем более легко сообразить, к кому следует отнести "безумие" (не к Гамлету, а к Монтеню. - И. В.). Что мог великий художник думать об авторе, который, подобно Монтеню, низвергает любую истину в калейдоскопической манере, все истины, которые заносят в его голову изменчивые случайности. Да ведь сам Монтень признается: "Я не в силах закрепить изображаемый мной предмет. Он бредет наугад и пошатываясь, хмельной от рождения, ибо таким он создан природой. Я беру его таким, каков он предо мной в то мгновенье, когда занимает меня. И я не рисую его пребывающим в неподвижности. Я рисую его в движении от... минуты к минуте" {III, 19.}.