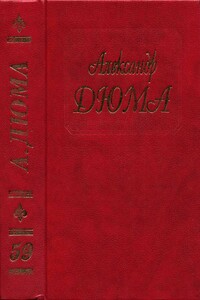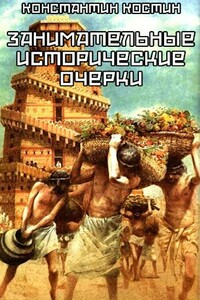Над бурей поднятый маяк | страница 73
Вдруг черты его исказились — то ли жестокостью, то ли страстью, то ли сомнением, как днем в «Сирене», когда он смотрел на мастера Шекспира, на его разбитое в кровь лицо, а потом целовал его, словно они по-прежнему оставались влюблены… до смерти. Он вытряхнул пепел из трубки — прямо на пол, и бесцеремонно, по-хозяйски подпихнул колдующего над ним юношу в темноволосый затылок.
Роберт Гоф, может, и был глуповат — но догадаться, что так мучило открывшегося ему человека, не представляло особого труда.
— Вы не верите мастеру Уиллу, ведь так? — спросил он, стыдливо поглядывая на то, как снова напрягалась шея юнца, как он вздрагивал, не в силах опустить голову еще ниже, но все же делал это через силу. И тут же со всхлипом двигался назад, почуяв обманчивое послабление, лишь затем, чтобы подавиться на следующем вдохе, оказавшись насаженным на предназначенное не ему мрачное желание. — А я ему верю… Все совершают ошибки. Но ошибки простительны, пока человек готов их искупать…
Мастер Кит слушал его — и не слышал. Ноздри его вздрагивали, матовый, немигающий взгляд застыл, устремившись в никуда. Последние пепелинки слетали на пол в согласном ритме с неласковыми движениями вцепившейся в темные волосы белой руки. Гоф опять заерзал — ему хотелось говорить еще, и говорить громко, чтобы не слышать странных, гортанно-мучительных звуков, издаваемых егозящим на коленях мальчишкой.
— Ведь вы скучаете по нему?
За такой вопрос в иное время он мог бы схлопотать звонкую, трескучую затрещину, но сейчас-то обе руки мастера Марло были заняты.
Кит усмехнулся — так криво, как наискось было разбито мутное, захватанное десятками грязных лап, ртутное зеркало, которое он раньше считал воплощением своей души. Мимолетно. В шутку. Вскидывая бедра, размазывая по обивке кресла светлые пряди волос.
О да, мой маленький гость.
Я скучаю по нему. Ты мог бы представить это, сделать осязаемым, потрогать, если бы хоть на толику знал, что такое — эта скука. Когда хочется выть вслед бешеным собакам, заходящимся на улице. Когда хочется содрать всю кожу с лица собственными ногтями. Когда от злости можно искрошить зубы до корней, и не почувствовать боли.
Когда понимаешь — спустя год! — то, что написал своей рукой, своей кровью, своей болью. Мой Ад — вокруг, и я — навеки в нем, в тоске, во взгляде, во лжи, в отданной другим ласке одного-единственного человека.
Как же это стыдно, мой маленький гость. Как унизительно и сладко.