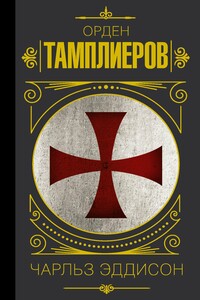Над бурей поднятый маяк | страница 48
Уилл закрыл вновь вспыхнувшее лицо руками. Голова налилась тяжелой свинцовой болью.
— Деньги, думается, я не скоро увижу? — сказала мисс Джинни, критически оглядывая наряд Уилла: старый кожаный дублет, плащ, вывернутый наизнанку, вызывающей багряницей внутрь, стоптанные сапоги и когда-то роскошные, бархатные с золотой искрой штаны Ромео, залатанные в нескольких местах.
— Я готов помогать вам, чем смогу, мисс Джинни, — опустил глаза Уилл. — Пока не внесу плату. Клянусь, в следующем месяце…
— А налоги я буду платить тоже в следующем месяце? А подручные Топклиффа ко мне когда опять нагрянут с обыском, не подскажете, мастер Уилл?
— Клянусь, мисс Джинни…
— Ох, мастер Уилл, держите свои клятвы при себе, — покачала головой мисс Джинни. — Сказано ведь в Писании: не клянись вовсе: ни небом, ни землею, ни головою твоею не клянись…
Если она откажет, — подумал Уилл, — придется проситься у Бербеджа ночевать в «Театре». Другого выхода нет…
— Да, да, — сказал он быстро. — Понимаю, мисс Джинни.
— Это хорошо, — кивнула мисс Джинни, и голос ее потеплел. — Хоть я и зареклась принимать поэтов, но комната, что вы ночевали с мастером Марло, как раз свободна. А в оплату пока будете выносить горшки, ну, и от сонета я не откажусь…
Туман не уходил, не рассеивался, не тончал. Тончали гвозди, пропущенные в запястья — чтобы не оторваться от памяти, чтобы помнить, какой завтра будет день — слово «пятница» было начертано поперек небес кровавым разводом. Так, — он помнил! — небрежно, буднично, ежедневно, замывались полы в пустоглазом, с камнями, поросшими светлыми мхами, доме у тюрьмы Гейтхаус.
Туман просачивался под веки, и болел под лобной костью. А кровь, или вино, или одна-единственная, заевшая, как неисправный часовой механизм, мысль, билась в венах, буравила череп Адама, напоминала о первородном грехе, влекла к нему. Там пусто, пусто, пусто, Кит Марло. Пусто в твоей пустой постели, похожей на снежное поле.
Он заляпал девственный гладкий снег кровью и вином, и настал черед плоти, обернувшейся хлебом. Он чертил ангельские монады, с ранами от гвоздей по центру, пытался уснуть, позорно, унизительно зарывался лицом в постель, чтобы уловить остатки знакомого, теплого, невыразимого в словах запаха единственного тела, годного к настоящему таинству причастия.
Но вместо этого постель пахла сначала духами графа Гарри, а потом — его собственным перегаром.
И вновь наступала пустота, осклабившаяся мертвой костью, маленькой Голгофой со стола: ты давно не беседовал со мной, Кит Марло, ты стал забывать, кому обязан своим отчаяньем перед лицом непостижимого.