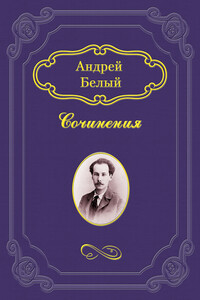Николай Гумилев в воспоминаниях современников | страница 63
Когда зимой 1920 года жизнь стала невыносимой в квартире на Ивановской от холода, Николаю Степановичу удалось переехать в «Дом Искусств», бывший дом Елисеева, на углу Невского и Мойки, где судьба соединила писателей, литературных и художественных деятелей, многих из состава сотрудников «Аполлона». За время пребывания Гумилева на фронте репутация его, как писателя, значительно выросла; он не чувствовал себя, вернувшись в русский литературный мир, одиноким. Почти вся группировавшаяся вокруг него в «Аполлоне» талантливая молодежь осталась при новой власти привилегированным меньшинством. Многие не связанные политикой сотрудники «Аполлона» могли служить власти, не вызывая особых подозрений, в то время как большинство сотрудников других журналов примыкали так или иначе к политическим партиям. Большевикам нужны были люди европейски образованные. Этим объясняется, что в «Доме Искусств» оказалось немало аполлоновцев или примыкавших к ним художественных деятелей.
В 1921 году только малое меньшинство эмигрировало, рискуя жизнью (в первую очередь — Мережковские и Философов), не допускавшие никаких компромиссов с большевиками.
Гумилев менее всего думал куда-нибудь «бежать», он продолжал упорно свою поэтическую линию, борясь с символистами и всякими «декадентами», вроде Маяковского, Хлебникова и пр.
Выразительнее всех и очень колко, по обыкновению, рассказал об этом Владислав Ходасевич в своей книге «Некрополь».
Раньше Ходасевич не был знаком с Гумилевым. Как-то «представился» ему случай и он получил у него «аудиенцию». Гумилев жил еще в моей квартире, до переселения в «Дом Искусств». «Он меня пригласил к себе, — рассказывает Ходасевич, — встретил так, словно это было свидание двух монархов. В его торжественной учтивости было нечто столь неестественное, что сперва я подумал — не шутит ли он? Пришлось, однако, и мне взять примерно такой же тон: всякий другой был бы фамильярностью… В опустелом, холодном, пропахшем воблою Петербурге, оба голодные, исхудалые, в истрепанных пиджаках и дырявых штиблетах, среди нетопленного и неубранного кабинета, сидели мы и беседовали с высокомерной важностью…»
Там же Ходасевич рассказывает об аресте Гумилева 3-го августа и об его расстреле 25-го августа. С большим волнением прочел я следующую страницу «Некрополя»:
«В конце лета я стал собираться в деревню на отдых. В среду 3-го августа мне предстояло уехать. Вечером накануне отъезда я пошел проститься кое с кем из соседей по «Дому Искусств». Уже часов в десять постучался к Гумилеву. Он был дома»… «Прощаясь, я попросил разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на сохранение. Когда на утро, в условленный час, я с вещами подошел к дверям Гумилева, мне на стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил мне, что ночью Гумилева арестовали и увели. Итак, я был последним, кто видел его на воле»… «Я пошел к себе и застал там поэтессу Надежду Павлович, общую нашу с Блоком приятельницу. Она только что прибежала от Блока, красная от жары и запухшая от слез. Она сказала мне, что у Блока началась агония. Как водится, я стал утешать ее, обнадеживать. Тогда в последнем отчаянии, она подбежала ко мне и, захлебываясь слезами, сказала: — Ничего вы не знаете… никому не говорите… уже «несколько дней… он сошел с ума!» Через несколько дней, когда я был уже в деревне, Андрей Белый известил меня о кончине Блока. 14-го числа, в воскресенье, отслужили мы по нем панихиду…»