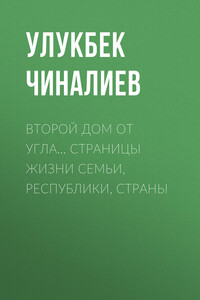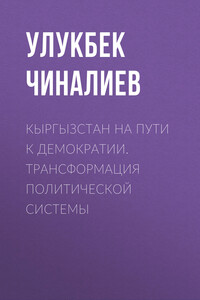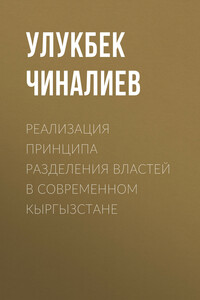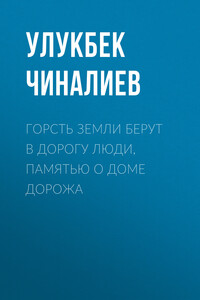Особенности формирования гражданского общества в Кыргызской республике | страница 54
К числу первых национальных политических организаций и движений, возникших после событий в России в феврале и октябре 1917 г., относились «Алаш», «Шуро-и-Исламия», «Туран», «Букара». Партия «Алаш» объединяла националистически настроенную казахско-кыргызскую интеллигенцию. Партия «Шуро-и-Исламия» состояла из представителей духовенства и тесно связанной с ним феодальной кыргызско-узбекской верхушкой юга Кыргызстана. Партия «Туран» состояла из учащихся старших классов, учителей, переводчиков, представителей торговой буржуазии. Революционно-демократический союз «Бухара» выражал интересы бедноты, он распространял влияние на Северный Кыргызстан и к осени 1917 г. насчитывал более 7 тысяч членов [8].
Все кыргызские партии, за исключением «Бухары», были малочисленными, аморфными образованиями. Больше всего их роль проявилась в организации так называемого басмаческого движения. В них сильны были пантюркские настроения. После победы большевиков в Гражданской войне и упрочения в Туркестане советской власти все они были разгромлены и прекратили существование.
В апреле-июне 1917 г. в Сулюкте, Пишпеке, Оше, Кызыл-Кие возникли социал-демократические группы [9]. Характерной их особенностью, во-первых, было то, что их члены не всегда достаточно полно понимали теоретические н практические тонкости политической борьбы, ее конечные цели, во-вторых, указанные группы, как правило, были инонациональными, представителей кыргызской национальности там были буквально единицы, в-третьих, в состав этих групп входили преимущественно представители интеллигенции, рабочая прослойка в них была незначительной или вообще отсутствовала. Для коренных жителей идеи социал-демократии были чуждыми.
Большевистские ячейки в Кыргызстане стали организационно оформляться после установления советской власти, в ходе и после завершения Гражданской войны. Постепенно, по указке высших партийных органов стали формироваться организационные структуры, которые сосредоточивали в своих руках всю полноту власти, партия стала единственной, правящей. Однако кыргызская партийная организация не была самостоятельной, во всей политической, организационной, кадровой работе она полностью подчинялась Средазбюро и ЦК ВКП(б), проводила в жизнь их установки и решения, которые далеко не всегда учитывали местные условия.
Такая ситуация вызывала со стороны некоторых видных партийных и государственных деятелей Кыргызстана определенное противодействие. В 1925 г. группа «тридцати» обратилась к ЦК ВКП(б), Средазбюро ВКП(б) и другим партийным органам с письмом, в котором констатировалось обострение групповой и родовой борьбы за место в партгосаппарате, игнорирование представителей коренной национальности, ужесточение централизации, сосредоточение власти в руках обкома партии, что подрывало авторитет и парализовало власть советских органов, вскрывались ошибки в хозяйственной, национальной политике и др. Реакция на письмо была вполне в духе тех времен: часть членов «тридцатки» была исключена из партии и отправлена на рядовую работу, часть изгнана из республики.