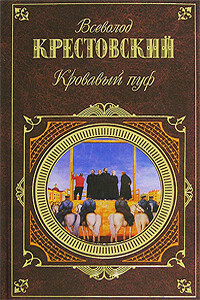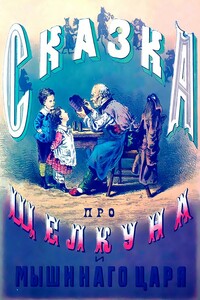Петербургские трущобы | страница 14
— Ну, мой грех, мой и ответ! — с решимостью проговорила княжна. — Я знаю, что надо делать. Есть у вас чернила и бумага?
Немка подала то и другое. Княжна села к столу и написала две записки: запечатав, она отдала их горничной, с приказанием отправить тотчас же на городскую почту.
— И как это вы, право, так, до последней минуты ходили! — удивлялась немка, укладывая больную в постель.
— Я ничего не знала… я думала, еще не время… Сегодня утром внезапно почувствовала, и то она мне сказала, а я и не знала бы, — ответила княжна, указав на Наташу.
Немка вышла из комнаты сделать необходимые приготовления.
— Она знает, кто я такая? — шепотом спросила княжна по-французски.
Горничная отрицательно покачала головою.
— Ты как ей сказала?
— Сказала, что вы просто так… девушка среднего круга, что надо скрыть от родных… ну, и ничего.
— Она не расспрашивала больше?
— Тридцать рублей дала в задаток, так и спрашивать не стала: «Это нам все равно», — говорит.
— Ну, слава богу!.. Только что-то будет дома, как нынче вечером Шипонина с дочерьми приедет!.. Ведь я сказала, что к ним пойду…
— Ай, ай, как же вы это так, не подумавши! — заботливо заметила Наташа.
— Где уж тут было думать! Я себя-то не помнила! Что первое взбрело на ум, то и сказала.
— Неравно узнают, — продолжала та притворно опасаться.
— Не узнают, если письмо раньше вечера дойдет; а если и узнают, так…
Княжна на минуту остановилась в тяжелом раздумье.
— Лишь бы он любил, а до остальных… Бог с ними! Мне все равно! — добавила она с глубоким и тяжелым вздохом.
Часов около шести вечера в комнате с закрытыми ставнями, сквозь щели которых слабо пробивался тонкий луч дня и сливался с матовым светом настольной лампочки, впервые раздался крик новорожденного младенца. Больная, услыхав этот первый звук жизни своего ребенка, тоже слабо, но радостно вскрикнула и, изнеможенная страданием и избытком волновавших ее чувств, тотчас же впала в легкий обморок.
IV
УДАР ФАМИЛЬНОЙ ГОРДОСТИ
Просчитав еще около часа по уходе дочери, княгиня встала с места, очень довольная собою и своими «делами». Она была скупа и на деньги, и на платье, и на кусок. Впрочем, приличие всегда соблюдала с отменною строгостью. Кодекс приличий и всемогущее «que dira le monde»[4] властвовали над душою старухи в равномерной степени со скупостью и скопидомством. Она покорялась им всем существом своим и всем существом трепетала перед роковою силою этого страшного что скажут?.. С тем уж она родилась, те понятия всосала с молоком матери, на том воспитывалась, прожила век свой и, под конец, почти что на том и помешалась. Ее дом, ее образ жизни, образ мыслей — все это могло служить, на глаза людей и близких и посторонних, образцом безукоризнейшего приличия, и все это заставляла ее делать неизлечимая болезненная боязнь этого «que dira le monde». Если бы что-либо в жизни княгини хотя на шаг отступило от установленного кодекса условий и приличий, если бы хотя малейшая вина легла на ее фамильное достоинство, старуха решительно не перенесла бы этого. Для нее уже был один подобный удар в ее жизни, — удар, нанесенный ее мужем, который, увы! часто позволял себе непростительные отступления от приличии, но княгиня скрыла этот удар в сердце своем и сумела довольно удачно замаскировать его перед обществом. Впрочем, об этом еще речь впереди.