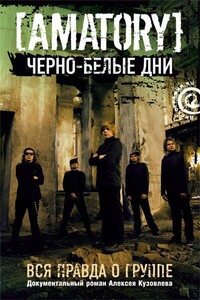Творчество Т.Н.Хренникова: Исследование | страница 3
«С Тихоном Николаевичем мы впервые встретились в конце 20-х годов в музыкальном техникуме Гнесиных, — вспоминает С. А. Ценин. — Он был «новенький» и сразу привлек мое внимание своей юностью, свежестью миловидного лица, рассыпающимися светлыми волосами и серьезной, сосредоточенной внимательностью, неожиданно сменявшейся открытой улыбчатой общительностью и острой реакцией на смешное. Смех его, чуть глуховатый, был так заразителен, что вы смеялись еще и от удовольствия посмеяться с ним вместе. Приехав из провинции, я чутьем угадывал в нем тоже «немосквича» и оттого чувствовал к нему еще большую симпатию. Обычно я встречал его в компании студентов-композиторов — учеников М. Ф. Гнесина, с которыми был довольно близок. Так родилось наше знакомство.
В те годы процветали концерты, на которых мы, учащиеся, слегка подрабатывали. Вскоре на одном из них я встретил Тихона Николаевича. Его выступление в качестве аккомпаниатора произвело на нас, вокалистов, неожиданно большое впечатление. Запетые вещи вдруг воскресали под его энергичными, певучими пальцами. Не испытывая никакого смущения или неловкости, он весь отдавался музыке. Чувствовалось, что он поет вместе с певцом, которому было легко и радостно следовать за ним. Я уже не говорю о техническом блеске, я говорю о великолепном раскрытии эмоциональной сущности каждого исполняемого произведения… Открытость его души, драгоценный дар товарищества, веселость привлекали к нему всех. Вот таким он остался в моей памяти» (см. 70, с. 115–116).
А вот не менее колоритный фрагмент, принадлежащий перу Н. И. Сац: «Помню первую встречу за роялем с юным Тихоном Николаевичем. Он пел смешным «композиторским» голосом, прерывающимся от волнения, и сам играл песню безработного… В театр пришло большое дарование… Он очень чувствовал переходы от речи к пению, в ряде номеров снимал вокальные строчки и требовал говора на музыке; одинаково ярко чувствовал драматизм и сатирическую остроту, музыкальный юмор… В нем нас радовало все: богатство фантазии, творческое своеобразие, чувство стиля и формы, русская основа, комсомольское сердце» (см. 56, с. 106–107).
Цитаты эти, быть может, чуть затянулись, но оба данных высказывания так свежи и непосредственны! В них, как живой, предстает перед нами молодой композитор со многими колоритнейшими чертами облика, душевного характера, особенностей дарования. Самое ценное, что они обрисовывают Т. Хренникова в неразрывном синтезе художника-творца и просто человека. Ведь только в таком синтезе можно и понять и ощутить своеобразие личности во всей ее цельности и многогранности.