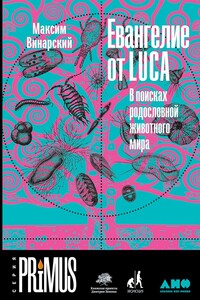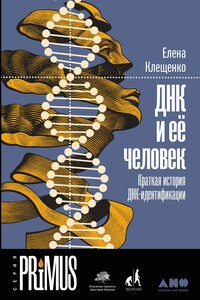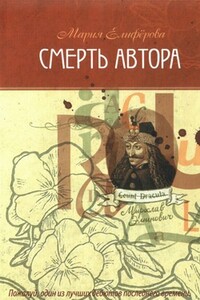#Панталоныфракжилет | страница 37
Современный русский язык отчасти склонен запрещать твердое Н перед [е] в западноевропейских заимствованиях: слова пионер, пенсионер, инженер, легионер, брюнет с самого начала писались через Е, а произношение типа пионэр, брюнэт ощущалось как ошибочное или манерное по меньшей мере с середины XX в. Именно этот нюанс придает столь неподражаемый сарказм знаменитой реплике Фаины Раневской: Пионэры, идите в жопу. Вместе с тем твердое произношение сохраняется в словах турне, кашне, аннексия. (Пока еще неясна будущая судьба слова интернет и производных от него: популярность в русском языке каламбуров со словом нет может “законсервировать” твердое произношение с целью избежать омонимии.) Так или иначе, твердость никогда не отражается на письме – все эти слова пишутся через Е. Но, что интересно, на японские заимствования этот запрет не распространяется: мы называем японский сувенир нэцкэ, а лисичку-оборотня из японской мифологии – кицунэ.
Немногочисленные слова западноевропейского происхождения, в которых Э оборотное после согласного вошло в устоявшуюся норму – английские мэр, пэр и сэр, а также французское мэтр. В последнем случае оно необходимо во избежание омонимии – чтобы отличать от метра (и так уже деятели искусства измучены шуточками на тему “мэтров и сантимэтров”). Однако русский язык до того не любит ставить эту букву после согласных, что слово метрдотель мы пишем через Е, хотя корень там тот же, что в слове мэтр.
Итак, буква Э существует почти исключительно для обозначения некоторых особенностей произношения иностранных заимствований. Единственные исконно русские слова с ее использованием – междометия вроде эх! и местоимения этот, этак, но еще в XIX в. допускалось написание етотъ, и некоторые интеллектуалы считали букву Э ненужной[63]. Собственно, она и утвердилась в русском алфавите только в петровскую эпоху. Примеры употребления Э в XVII в., на которые обычно ссылаются, принадлежат белорусским авторам; рассматривать обозначения твердости и мягкости перед [e] в украинском и белорусском мы здесь не станем – это увело бы нас далеко в сторону. Выходит, и в данном случае речь идет о сравнительно недавних заимствованиях – моложе 300 лет. А как обстоит дело со старыми заимствованиями?