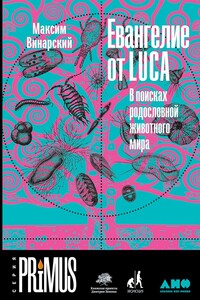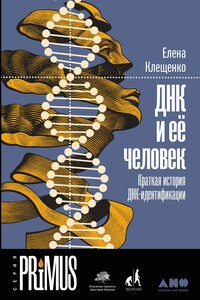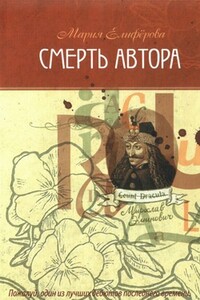#Панталоныфракжилет | страница 20
Более того, релятивисты и с грамматическими конструкциями обращаются как со словами, за которыми стоят вещи или идеи. Отсюда, например, популярность теории, согласно которой безличные конструкции типа мне приснилось или мне довелось свидетельствуют о том, что носитель русского языка воспринимает себя как пассивный объект воздействия внешних сил (а, соответственно, носитель английского языка, в котором этих конструкций якобы нет, – как активного деятеля)[43]. Эта идея появилась задолго до трудов Вежбицкой, но была подхвачена ею самой и ее сторонниками[44].
Идеологические аспекты “языковой картины мира”, по которым “вежбицкианцам” тоже предъявляют немало претензий, я позволю себе оставить за кадром. Здесь обсуждается только вопрос, насколько основная идея данной теории соответствует реальности языка.
Один из критиков Вежбицкой, Патрик Серио, отмечает:
Следствием этой основной идеи является положение, которое можно назвать оруэлловским: если в определенном языке нет слов (форм), с помощью которых можно выразить что-либо, то на данном языке нельзя ни подумать, ни даже почувствовать это[45].
Не правда ли, знакомая мысль? Именно это положение несколькими десятилетиями ранее без тени иронии высказывал М. И. Стеблин-Каменский, обсуждая возможность обозначения понятия “любовь” или “авторство” в древнеисландском. “Любовь” и “авторство” оказываются полностью тождественны “электричеству” или “суши-бару”: они заимствуются извне вместе с соответствующими словами. Слова рассматриваются в первую очередь как названия предметов, равноценные по объему значений. Хотя, надо сказать, Стеблин-Каменский не заходил так далеко, как вежбицкианцы, – в том, что грамматические конструкции языка отражают мировоззрение, он все же сомневался[46].
Если вдуматься, этот постулат заводит в логический тупик: нельзя помыслить о чем-то, пока не появилось слово для его обозначения. Но, если новое слово заимствуется потому, что нужно назвать новую вещь или идею, как тогда вообще возможны заимствования из одного языка в другой?