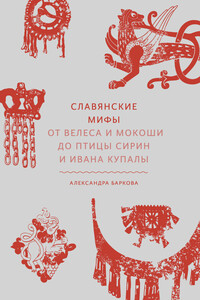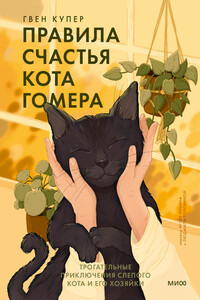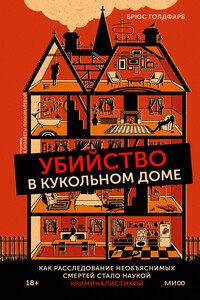И все это Шекспир | страница 39
(Пролог)
Выражаясь языком интернет-рецензий: «Осторожно, спойлер!». Или, в духе академической теории, перед нами развернутый пролепсис, то есть забегание вперед, флешфорвард. Таким образом, пьеса изначально носит выраженный телеологический характер: сюжет неотвратимо движется к заранее известной развязке. Для зрителя Ромео и Джульетта умирают прежде, чем появляются на сцене. Они — воплощение собственной скорбной участи. Хор повествует об их судьбе в жесткой форме сонета: четырнадцать строк, предсказуемая схема рифмовки, неотвратимое движение вперед, к заключительному двустишию. Язык пролога отображает идею рока, фатума: любовники рождены «из чресл враждебных, под звездой злосчастной», то есть их судьба заранее определена небесными силами и собственным наследием. «Весь ход любви их» обречен смерти еще прежде, чем они встречаются на балу у Капулетти. Следовательно, каждое слово и каждый образ в прологе передают ощущение неумолимо надвигающейся катастрофы. В сущности, она уже произошла; это мы теперь движемся к ней, зная, что изменить ничего нельзя. Режиссер Баз Лурман в знаменитом фильме 1996 года «Ромео + Джульетта» нашел необыкновенно удачное решение: пролог представлен как выпуск новостей. Сухая криминальная сводка, зачитанная ровным, хорошо поставленным, официально-скорбным дикторским голосом, прекрасно укладывается в строгую, парадную, даже педантичную форму сонета. У Шекспира ритмическая структура стиха несет ту же смысловую нагрузку: подчеркивает неизбежность развязки и тщетность любых попыток ее предотвратить. Перекрестная рифмовка усиливает эффект: как только ритм установлен, нам остается лишь дожидаться очередного созвучия. Если в конце строки встречается положительно или хотя бы нейтрально окрашенное слово, оно в большинстве случаев рифмуется с чем-то отрицательным: событья — кровопролитье, вновь — кровь, произошла — умерла. И формальная структура, и мрачный словарь помогают прологу выполнить пролептическую функцию (то есть послужить спойлером). Тема злого рока, неотвратимости и дурного предчувствия, впервые заявленная в прологе, неоднократно возникает и в позднейших сценах, например в первом акте, когда Ромео томится перед маскарадом: «Предчувствует душа, что волей звезд / Началом несказанных бедствий будет / Ночное это празднество» (I, 4).
Для чего нужно так полно раскрывать содержание пьесы в первых строках? Прежде всего следует вспомнить, что зрители и читатели раннего Нового времени, в отличие от нас, не ждали от сюжета резких поворотов и непредсказуемого финала. Оригинальность, уникальность замысла высоко ценится в искусстве XXI века, но в XVI столетии культура была иной. Гуманистическая система образования подозрительно относилась к новизне и художественному вымыслу как таковому: он считался врагом истины, а следовательно, и морали. Именно поэтому многие поколения поэтов и драматургов были воспитаны в убеждении, что подлинная задача художника слова — переводить и перерабатывать уже известные тексты и сюжеты. Зрителям и читателям этот творческий метод под названием imitatio дарил особое, эксклюзивное удовольствие: распознавать источники и ценить мастерство обработки. Так, в 1602 году, когда лондонский студент-правовед Джон Мэннингем побывал на представлении «Двенадцатой ночи», он сразу же отметил сходство пьесы с «Комедией ошибок» и «Двумя Менехмами» Плавта, о чем записал в своем дневнике. Однако в его заметках звучит отнюдь не жалоба на затертый, банальный сюжет, а скорее радость узнавания и гордость за собственную эрудицию и сообразительность. В те времена длинные тексты нередко предварялись кратким синопсисом: например, в аллегорической поэме Эдмунда Спенсера «Королева фей» (1590) каждая песнь открывается четверостишием, передающим ее основную идею. Очевидно, удовольствие читателю должны были приносить не запутанные сюжетные ходы с неожиданной развязкой, а вариации на хорошо знакомую тему.