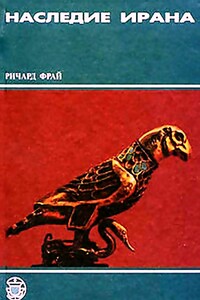Очерки истории культуры Средневекового Ирана | страница 56
Ко всему сказанному необходимо еще добавить следующее. Выше мы упоминали, что в предисловии к средневековому персидскому сочинению обычно помещались план (т. е. указание, из каких основных частей состоит сочинение) и оглавление к нему. Это оглавление содержит полный перечень всех (от самых крупных до самых мелких) подразделений текста сочинения с указанием их названий. Может ли означать наличие в предисловии подобного оглавления, что следующее за ним сочинение было написано в соответствии с ним, т. е. по заранее разработанному до мельчайших деталей (т. е. до самых мелких подразделений текста включительно) плану?
Само по себе наличие подобного оглавления еще не дает основания для такого вывода. Автор мог составить оглавление по уже законченному тексту сочинения, а затем поместить его в предисловие. Однако против подобного предположения говорят следующие два обстоятельства.
1. Раньше мы упоминали обычно характерные для большинства сочинений, о которых идет речь, черты — цельность, стройность, законченность. Едва ли все эти черты могли быть им присущи, если бы они писались без заранее составленного, достаточно подробного плана, который и находил свое конкретное выражение в оглавлении к сочинению, помещенном в предисловии.
2. Если бы оглавление, о котором идет речь, составлялось на основе уже готового текста сочинения, то такое оглавление должно было всегда являться зеркальным отображением содержания сочинения, иначе говоря, все подразделения текста, которые есть в сочинении, должны были быть указаны в оглавлении, и, наоборот, все подразделения, фигурирующие в оглавлении, должны были находиться в сочинении.
Между тем это бывает так далеко не всегда. Нередко в сочинении имеются подразделения текста, которые в оглавлении не упомянуты, и, напротив, в оглавлении указаны подразделения, которые отсутствуют в самом сочинении. Первый случай объяснить можно довольно легко: это подразделение (или подразделения) мог пропустить сам автор сочинения при составлении оглавления к сочинению после завершения последнего. Такого рода пропуски мог сделать и любой переписчик рукописей при переписке текста оглавления. (Один случай, когда подразделения, находящиеся в сочинении, обычно не отмечаются в оглавлении, мы здесь в расчет не берем: имеются в виду подразделения, которые представляют собой позднейшие интерполяции, по нашим наблюдениям, как правило, не фиксирующиеся в оглавлении.)
Гораздо сложнее обстоит дело с объяснением второго случая (т. е. с отсутствием в тексте сочинения подразделений, указанных в оглавлении), конечно при условии, что в соответствующем месте нет лакун и вообще никаких признаков явной испорченности текста. В самом деле, кто и с какой целью мог указать в оглавлении подразделения, которых нет в сочинении и о которых у нас нет никаких оснований думать, что они вообще когда-либо находились там? У нас не имеется причин предполагать, что это могли сделать, например, переписчики рукописей или какие-либо другие лица. Такое предположение сразу же отпадет, стоит только поставить перед собой вопрос: каков мог быть смысл или какова могла быть цель подобных вставок в оглавлении?