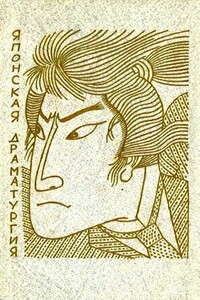Литерный А. Спектакль в императорском поезде | страница 86
С обрывком «…власть…» как с бантом
модным
раскачивался над Обводным
простреленный кумач. Со дна
всплывали тёмные шинели
домов. Шёл холод по реке.
Средь мёртвой тьмы в особняке
графини Паниной желтели,
как в теремочке, окна: три
весёлых капли. В них, внутри
трёхгорлой колбы, сиротели
три человечка (тьма с краёв),
гомункулы, чудной наукой
взращённые: князь Долгорукой,
Андрей Иваныч Шингарёв
да Фёдор Фёдорыч Кокошкин
в своём всегдашнем сюртуке
(в отглаженном воротничке
головка — как яйцо в лукошке).
Усы, пенсне. Блеск стёкол весел.
В руке листок двоится. Вслух
читает первым двум. Тех двух
почти не видно из-за кресел.
Земные выступили воды
на бой с небесными. Открыть.
Он им читал проект свободы.
Он завтра будет говорить
там, в Учредительном. Пусть Ленин
поймёт: бунт жуток. Постепенен
путь конституции. Они
не знают, что творят…
В те дни
над обречённым Петроградом,
над льдистым морем, трупным смрадом
скитальцы-тучи жгли костры,
метались клочья транспарантов,
и статуи глядели с крыш
с растерянностью эмигрантов.
Да, завтра будет бой. Да будет!
Канун. Судьба. Тринадцать лет
мы ждали. И настало. Свет
мелькнул — и гаснет. Нас рассудит
последний суд. В окне черно.
Те — победили. Ясно. Но
ведь с нами правда. Червь народа
ещё не пробуждён. Во сне
шевелится он страшно — не
прикован, но и не свобода.
Вот вышли: море, цепь, скала —
но ни орла, ни Прометея.
Пустое. Бездна. Провиденье.
Полз дым по мареву стекла
сигарно-трубочным надсадом
и расплывался над сукном.
Двоился мир.
А за окном
над помрачённым Петроградом,
над зимним утром, Летним садом,
над новым окаянным днём
неслись невидимые воды,
и бились прутья непогоды
о шпили башен всех времен.
И, гол, на площади широкой
вздымался камень одинокий.
Он плыл один средь мёртвых вод
без змея и коня. Исход
свершался. Там, в ночи беззвёздной,
над сводом мира, в вышине
скакал багровый всадник бледный
на неподвижно-злом коне.
II
Тогда по площади Сенатской
прошли походкою солдатской.
Подковки по камням. Раз! Раз!
Двенадцать кожаных бушлатов.
Двенадцать кованых прикладов.
Двадцать четыре ямы глаз.
Вприпрыжку спереди и справа —
тринадцатый: троцкист Гордон,
студент, еврейский мальчик. Он,
как жребий, вытащен причудой
судьбы, из пустоты на свет.
Он их ведёт. Ему Иудой
сегодня быть. Прошло пять лет
с тех пор, как он пришёл послушать
Кокошкина: тот им читал
курс права. Ученик мечтал
весь мир насилия разрушить,
оковы зла разбить. Теперь
с бумагой от Петросовета
идёт учителя-кадета
арестовать. Вот эта дверь.
— Семь тридцать. Сверим.
(Тьма такая,
Книги, похожие на Литерный А. Спектакль в императорском поезде