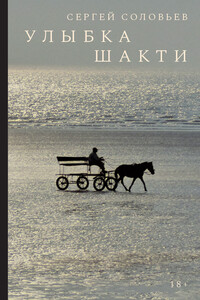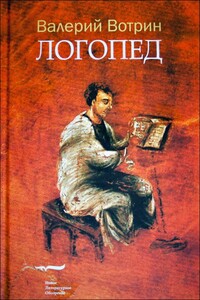Показания поэтов | страница 84
Следующая картинка из альбома, который богема петербургского кабаре «Бродячая собака» со стихами Кузмина, Ахматовой, Гумилёва поднесла в честь Тамары Карсавиной – Саломеи, похожей на блуждающую комету в космической, бесконечной мантии: на колене царевны каждый вечер «русских балетов» Сергей Судейкин рисовал розу. Судейкин превратил зал на Елисейских полях в ад под звёздами чёрного неба; два ангела с лазоревыми крыльями стояли над царевной, пока перед ней чередой проходили замученные, чудовища творили казни, и кровь – если вспомнить, что немного спустя мэтр создаст «Маску красной смерти», – лилась.
И ещё одна Саломея, белокурая, в белом газовом платье, перевитая золотом; её золочёные туфли блестят в танце, сверкают голубые молнии на багряном зареве. Сейчас трудно представить себе этот спектакль Евреинова, запрещённый за «порнографию»; мы не видели, как Николай Калмаков, волшебник из Петергофа, мастер невероятных кукол, одел Саломею – Наталию Волохову, легендарную «снежную маску» стихов Блока.
К сожалению, в моё собрание не попали ни Алиса Коонен, игравшая Саломею у Таирова, ни Ольга Глебова-Судейкина, исполнявшая в «Бродячей собаке» танец семи покрывал, ни Ольга Спесивцева, сменившая Карсавину в балете Шмита – ни тем более Алла Назимова… Как передать все танцы, поставленные Романовым, Леонтьевым, Лифарем, Голейзовским? Спектакли, которых не видели, жизни, о которых не узнали, – напоминают потерянные навсегда возможности, утраченные чары, сваи, лежащие в основании Петербурга. Каждая карта – изображение, преданная повесть; только желанная карта, та, которую и гадание, и надежда, имеет не значение, а имя. Я перевернул её. Это была не карточка с загнутым в просьбе ответа уголком, не фотография на память, а обычная «французская» игральная карта, червонная дама.
Любая цыганка – или хотя бы ваша родная тётка – скажет, что по этой карте загадывают «предмет любовный». В уголке карты сердце, коронка и имя – Юдит, – которым с изобретения «французских карт» называют червонную королеву.
Та самая Юдифь, обольстившая и обезглавившая ассирийского Олоферна, – и ведь это её портрет, вывешенный плакатом в Летнем саду, завлёк меня во весь этот паноптикум. Я попытался понять, что чувствовал тот художник, который первым увидел в благочестивой Юдифи такое странное, карточное двуличие, что если перевернуть всё вниз головой – получится то же… В какой комнате картины с гибелью Крестителя и с доброй израильтянкой висели напротив, как зеркала: какая ещё любовная тайна, может быть, погубившая своих героев, сгорела в старых хрониках? Как же я мог разглядеть Саломею, пускаясь за ней повсюду, если столько веков каждое упоминание о ней, возникающее в недобрый час против воли, рождает новую легенду?