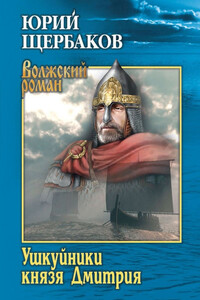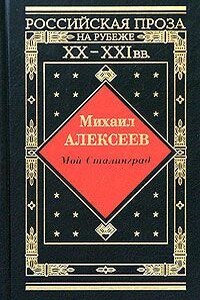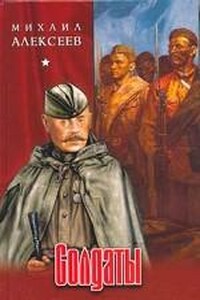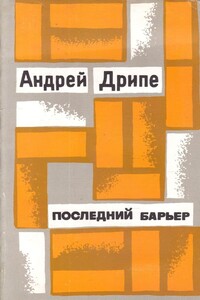Вишневый омут | страница 39
— А вы не горюйте, ваши листья весной опять распустятся, зазеленеют, — сказал Петр и задумался о чем-то, прижав пальцами заматеревшие, опаленные горячими и неласковыми Ляодунскими ветрами усы, потеребил бороду, прошитую местами кудельной ниткой седины. Подошел к отцу, хлопотавшему возле шалаша. Спросил с той же грустинкой, маскируемой насмешливостью: — Ну как, красивый я?
— Дуже красивый. Надо б краше, да некуда.
— То верно, отец. Родной сынишка боится. Хочу взять его, а он затрясется весь, засучит ножонками, зайдется в плаче, аж посинеет, того и гляди, животишко надорвет… И за что меня Бог покарал? За что? Уж лучше бы насмерть! — Долго сдерживаемая боль, накопившись, всколыхнулась, прорвалась, выплеснулась наружу. Всегда такое доброе лицо Петра искривилось страданием, в голубовато-серых, как у отца, ласковых, мягких глазах сверкнули лезвия острой озлобленности. — Зачем повезли нас туда? Без патронов — с одними ширинками да иконами? Зачем? Не помог и Георгий Победоносец — побили нас, как рассукиных сынов! Вчистую размолотили!.. А зачем, я спрашиваю? Что мне до тех желторожих? Пущай бы наш царь один сцепился с Микадовым-то и волтузили б друг дружку! У нас и без япошек хватает врагов — одни Савкины чего стоят! Живой, что ль, старик-то? Ну да… Черт его заберет — двести лет жить будет, бирюк!.. Федька Орланин умнее поступил: выскочил в Аткарске из скотиньего вагона, в каком нас везли на убой, только его и видали…
— Дезертир, значит?
— Дезертир ай еще кто — один черт! Убег — и молодец. Постарше нас и поумнее оказался. И свово адмирала Макарова не захотел повидать — его, вишь, япошки потопили…
— Ну, ты вот что, Петро… Бог правильно тебя покарал: балакаешь многонько, а таких Он не любит, Бог. Послушай меня, батька дурное не присоветует. О войне, о желторожих, об Орланине помалкивай. Язык свой придержи: не ровен час, вырвут. У императора голова, поди, лучше твоего устроена, знает, что надо делать, с кем воевать и прочее…
— Знать-то он знает…
— А ты помолчал бы все-таки, — не злобно, но властно остановил Михаил Аверьянович сына. — Помолчи, когда отец говорит. Сколько уж ден прошло, как возвернулся, а не спросишь, как мы тут живем-можем, шо нажили, шо прожили, шо вспахали-посеяли…
— Тять, а когда ты отучишься балакать по-хохлацкому? — улыбнулся Петр.
— Мабудь, никогда. До самой могилы не забуду… — Михаил Аверьянович вдруг посветлел лицом, отставил верею, которую собирался врыть в землю, распрямился во весь рост, широко развернул плечи, как бы собирался взвалить на них большой и драгоценный груз. Радостно улыбнулся чему-то своему, далекому и, верно, очень дорогому для него. Потом, сразу же погрустнев, вздохнул: — Мабудь, не придется уж побывать в тех краях, на Полтавщине, глянуть хоть одним глазком на Днипро…