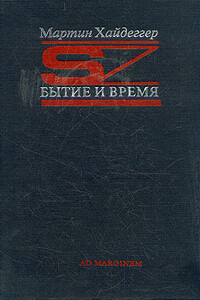О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль | страница 83
И только истинные поэты еще чувствуют эту священность природы. «Их знание – это предчувствие». Восприятие сакрального спонтанно-фрагментно. «И хотя непосредственное никогда невозможно воспринять непосредственно, все же следует "ловить собственными руками" луч-посредник и стремиться выстоять даже "под грозами" восходящего первоначального». Инструментом восприятия изначального является для поэта «чистое сердце». «Сердце означает то, в чем собирается самоприсущая сущность этих поэтов: тишину принадлежности к объятости сакральным». Чистое в словаре Гёльдерлина близко к изначальному. Поэтому «чистое сердце» он трактует не в моральном смысле, а как род или характер отношения, связи. Как способ соответствовать «всеприсутствующей» природе. «Если поэты остаются внутри присутствия могущественно-прекрасной "природы", тогда у них и нет уже возможности кичиться только своим собственным, не соизмеряясь с тем, что есть Закон. Их руки "невинны". И их высочайшая решимость, поэтическое сказывание, выглядит как "невиннейшее из всех занятий"».
Но какова потаённая природа сакрального? «Сакральное по своему происхождению есть "нерушимый закон", та "строгая зависимость", в которой все связи (отношения, тяги) внутри всего действительного переплетены. Всё суще лишь потому, что сконцентрировано во всеприсутствие неприкосновенно-целого, в котором осознается: "всё есть сердце"[42]. Именно так начинается один поздний фрагмент <Гёльдерлина>. Всё (то есть вся вселенная. – Н.Б.) есть постольку, поскольку высвечивается из сердечной искренности всеприсутствия. Сакральное – это сама сердечная искренность (глубинная задушевность), сакральное – это "сердце"». «Священное – это бывшая некогда и грядущая глубинная задушевность, "вечное сердце"»[43]. Бывшая и грядущая, ибо мы ныне – в промежутке омраченности.
Соответственно, и общение между людьми может вестись как на профанном, так и на сакральном уровне. Возможность вести беседу, то есть слышать друг друга, дали нам некогда боги. «С той поры, как боги вовлекли нас в разговор…» То есть истинный разговор между людьми должен быть сориентирован по исходной планке божественного уровня. Божественное не есть нечто потустороннее и трансцендентное. Мы можем вернуться на этот уровень самих себя, ибо это и есть наша искомая (искомая ли?) сущность. «То, что остается в пребывании, никогда не творится из преходящего». Поэт отлавливает в сущем бытийные блёстки непреходящего