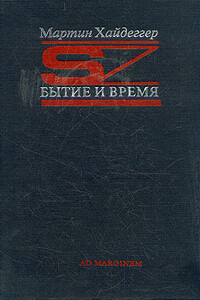О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль | страница 79
Истинное бытие – не проективно-преобразовательное, не прагматическое, не экономическое, не интеллектуальное, не зоологически-чувственное и даже не экзистенциальное, а поэтическое! Такова была суть научения нас мудрому жительствованию, осуществленная богами. Мы пришли на землю не брошенными сиротами, не вылупившимися из яйца невеждами, нас ввели в бытие, объяснив нам путь мудрости; нежные боги сказали нам: живите поэтически и всё будет вам во благо, но всякий иной путь и метод заведет вас в тупик и в погибель. Соответственно оставалось понять единство корреляции между божественным мышлением/восприятием и структурой (глубинно-потаённой) вселенной и прежде всего земного космоса, единственного и неразменного. И если каждая прядка тумана и каждая горсть песка-глины скрыто волхвует божественными вибрациями, то от этой истины нельзя отказываться ни в коем случае; вот почему нельзя позволять себе иной уровень общения с сущим нежели благоговение. Это и есть существо поэтического жительствования. Центр внимания здесь всегда повернут на бытие, а не на субъект, которого в этой истинной вселенной еще и не было. Об этом и писал Рильке в Восьмой дуинской элегии, проповедуя Открытость, открытый простор сущего, от которого нынешняя популяция землян отвернулась, замкнувшись на созерцание собственной субъективной сферы. Все силы внимания сосредоточились на «Я». Человек замкнул себя в капсулу эго. Поэзия, соответственно, перестала быть методом жизни, превратившись в словесное ремесло, в дело штукарей-виртуозов, демонстрирующих свое либо сугубо эстетическое, либо психолого-паталого-анатомическое мастерство. Нынешней эпохой управляет эстетический террор, так что эстетическая, интеллектуальная и психологическая изощренность выступают здесь товаром повышенного спроса. Болтовня о духовном и сакральном, равно и о Боге стала одной из бессчетных специй-приправ в бесстыдном гастрономическом спектакле.
Истинный (реликтовый) поэт верен своей глубинной интуиции. Он черпает из своего моря безмолвия, которое позволяет извлекать каждое слово очищенным. Всё земное для Рильке было и оставалось сакральным. Потому-то его подлинное бытие осуществляло себя, как и у Гёльдерлина, в особом измерении, которое могло быть замеченным лишь немногими.
Потому-то «серафический доктор» полушутя-полуполемически говорил Касснеру в качестве признания, что яблоко, когда он его вкушает, прямо у него во рту превращается в дух. Суммируя разговоры на эту тему, Касснер пишет, что Рильке не подчинялся идеологическому тоталитаризму христианства по этой же причине: логос, который невозможно было вкушать, был для него не настоящим. Такова цельность поэта, подобная не метафорическому ви́дению поэта Георга Тракля, который, скажем, описывает звездное небо как ночное озеро. Обыкновенный человек, пишет Хайдеггер, считает это метафорой, «однако ночное небо в подлинности его существа и есть озеро. В сравнении с ним то, что мы обычно называем ночью, скорее является именно что образом, то есть выцветшей и опустошенной копией ее сущности». Прямое видение того, что