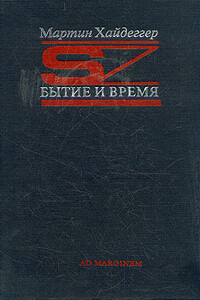О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль | страница 72
Поскольку речь этого стихотворения исходит из пребываемости в пути Отрешенного, постольку она постоянно глаголет также и из того, от чего отрекается, прощаясь, а также из того, на что она себя в этом отречении обрекает. Язык поэтического произведения сущностно многозначен, и притом своим собственным оригинальным образом. Мы ничего не услышим в поэтическом сказывании, если обнаружим в стихотворении лишь некий затупившийся смысл одного-единственного однозначного предположения.
Сумерки и ночь, гибель и смерть, безумие и дикий зверь, пруд и камень, птичий полет и лодка, пришелец и брат, душа и Бог, равно как цветовые обозначения: голубой и зеленый, белый и черный, красный и серебристый, золотой и темно-смуглый, – звучат многократно, вновь и вновь.
«Зеленый» – тленно-тлеющий и расцветающий, «белый» – бледный и чистый, «черный» – мрачно-замкнутый и сумеречно-укрытый, «красный» – пурпурово-плотский и радужно-нежный. «Серебриста» – бледность смерти, но и сверкание звезд – «серебристо». «Золотой» – блеск истины и «чудовищный хохот золота» (133). Отмеченная здесь многозначность пока что двузначна. Однако эта двузначность, эта двойственность сама в свою очередь в качестве целого восходит к одной из сторон того, чья другая сторона определяема задушевнейшей местностью стихотворения.
Поэтическое произведение говорит из глубины двойственной двойственности. И все же эта неоднозначность поэтического высказывания не растекается в неопределенной двусмысленности. Многозначный тон поэзии Тракля имеет своим истоком концентрацию, то есть ту гармонию, что, взятая сама по себе, всегда остается несказанной. Многозначность этого поэтического сказывания – отнюдь не неточность небрежности, но как раз строгость той бережности, с какой она отправляется участвовать в добросовестной точности «праведного созерцания», всецело подчиняясь ему.
Эту в самой себе абсолютно надежную неоднозначность сказывания, свойственную поэтическим произведениям Тракля, бывает довольно трудно отграничить от языка тех поэтов, чья многозначность проистекает из неопределенности и неуверенности их поэтического блуждания на ощупь, – на ощупь, ибо у них отсутствует собственная поэма и ее местность. Уникальная строгость сущностно многозначного языка Тракля в некоем высшем смысле столь недвусмысленно однозначна, что бесконечно превосходит даже и всякую техническую точность предельно научных однозначных понятий.
В своеобразно многозначной речи, обусловленной местностью поэзии Тракля, нередко звучат слова, принадлежащие к миру библейских и церковных представлений. Переход от ветхого рода к роду нерожденному ведет через эту область и, соответственно, через ее язык. На христианском ли языке говорит поэзия Тракля, в какой мере и в каком именно смысле, каким образом поэт был «христианином», что в этом случае, да и вообще, можно подразумевать под «христианским», «христианским миром», «христианством» – всё это весьма существенные вопросы. Однако их истолкование провисает в пустоте, покуда со всей обстоятельностью не определена местность поэмы, поэтического строя речи. Сверх того, истолкование этих вопросов потребовало бы размышлений, для которых не хватило бы понятий ни метафизических, ни, соответственно, церковной теологии.