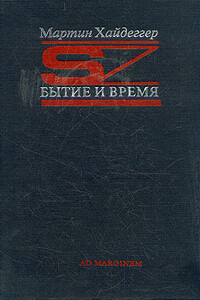О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль | страница 62
Сумерки, ночь, годы чужеземца-пришельца, его тропу поэт определяет в качестве «пронизанных духом» (geistliche). Отрешенность – «духоносна» (geistlich). Что подразумевается под этим словом? Значение его и пользование этим значением древни. «Духоносное» – это то, что находится в смысловых границах духа (Geist), происходит от него и следует за его сущностью. Сегодняшнее привычное словоупотребление ограничило «духоносное» его отношением к «священнослужителям», к духовному статусу жрецов или церквей, ими возглавляемых. У Тракля, повидимому, тоже просматривается этот смысл (по крайней мере, при поверхностном чтении), если, скажем, обратиться к стихотворению «В Гельбрунне» (191), где он говорит:
когда перед этим сказано о «тенях церковных владык, благородных жен», и кажется, что «тени давно усопших» зыбко колышутся над «весенним озером». Однако поэт здесь, вновь воспевая «голубой плач вечера» и наблюдая за тем, как дубы «священно зеленеют», думает при этом вовсе не о духовенстве. Он думает о той ранней поре давно Умершего, которая обещает «весну души». Ни о чем ином не поется и в более раннем стихотворении «Духоносная песнь» (20), лишь в более скрытой и еще неявно форме. Дух этой «Духоносной песни», играющей в странную неопределенность, отчетливее определяет себя словесно в последней строфе:
Но если поэт не вкладывает в «духоносное» смыслов, идущих от духовенства, но лишь определяет то, что имеет отношение к духу, то почему бы ему на худой конец не воспользоваться словом «духовный» (geistig) и не говорить о духовных сумерках, духовной ночи? Почему он избегает слова «духовный» (geistig)? Да потому что «духовное» используется в качестве противопоставления материально-вещественному; и, демонстрируя различие двух этих сфер, оно именует, выражаясь платоново-западноевропейским языком, пропасть между сверхчувственным и чувственным.
Понятое таким образом духовное, преобразовавшееся между тем в рациональное, интеллектуальное и идеологическое, принадлежит (вместе со своим антиподом) мировоззрению разлагающегося человеческого рода. Однако от последнего как раз и открещиваются «смутные блуждания» «голубой души». Сумерки в канун Ночи, в которые уходит Чужбинно-незнакомое, имеют столь же мало оснований именоваться «духовными», сколь и тропа Чужеземца. Отрешенность – духоносна, пронизана духом, порождена духом, и тем не менее она отнюдь не «духовна» в метафизическом смысле.