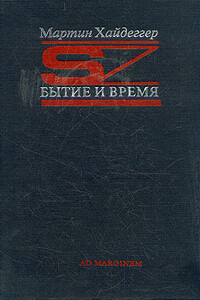О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль | страница 59
Стихотворение называется «К одному рано умершему» (135). Отрешенный – это тот, кто медленно-тихо умер в юности. Поэтому он – «нежный труп» (105, 146 и др.), погруженный в то детство, которое храняще утишивает в своей дикой местности всё страстное и пылающее. Поэтому умерший в юности является в качестве «смутного образа прохлады». О ней повествуется в стихотворении, названном «У монашьей горы» (113):
«Темный образ прохлады» идет не вослед страннику. Он идет впереди него, в то время как лазоревый голос мальчика возвращает забытое, как бы суфлируя его.
Кто же этот на жизненном рассвете тихо умерший отрок? Кто же этот отрок, чьё
(97)
Кто он, движущийся по усеянной костями тропинке путник? Поэт окликает его такими словами:
О, как давно уже, Элис, ты умер!
Элис – это призванный к гибели Пришелец. Однако Элис – ни в коем случае не образ, в котором Тракль видел самого себя. Элис отличается от поэта столь же существенно, сколь мыслитель Ницше – от образа Заратустры. Но два этих образа сходятся в том, что их сущность, существо и их странствие начинаются с гибели и распада. Гибель-закат Элиса восходит к древнейшей рани, которая старше даже, чем состарившийся разлагающийся человеческий род, – старше, потому что более мысляще-размышляюша; более мысляще-размышляюща, потому что более тихая; более тихая, потому что сама есть успокоение.
В образе отрока Элиса мальчишество пребывает отнюдь не в противопоставлении к девичеству. Отрочество здесь – проявление тихого, молчаливого детства, которое скрывает и накапливает в себе кроткую сдвоенность пола, таящего в себе и юношу, и равно с ним «золотой девичий образ».