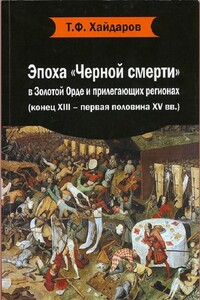Великая английская революция в портретах ее деятелей | страница 38
Итак, капиталистический уклад в промышленности предреволюционной Англии был представлен капиталистической мануфактурой — централизованной и рассеянной — с явным преобладанием последней.
Хотя цеховой строй городского ремесла, как отмечалось, был еще жив и не без содействия властей[9] продолжал отстаивать традиционные формы производства (отсюда борьба корпоративных городов против новых центров мануфактуры, и прежде всего в их сельской округе), однако не требуется большого труда, чтобы обнаружить яркие свидетельства его внутреннего перерождения и разложения.
В XVII веке имущая верхушка в цехах настолько отделилась от массы ремесленников, что первая сосредоточила в своих руках связи с рынком, а вторые были оттеснены от него и ограничены только функциями производства. Верхушка цехов, так называемые ливрейные мастера (представлявшие цех перед городскими властями), вскоре выделилась в так называемые ливрейные компании. Это были уже по сути чисто купеческие компании, подчинившие своей экономической власти ремесленников соответствующих специальностей: торговцы сукном диктовали свои условия ткачам, торговцы ножевыми изделиями — производителям клинков, ножей, кузнецам и т. д. Достаточно отметить, что из 12 ливрейных компаний Лондона 7 являлись с самого начала торговыми корпорациями. Разумеется, в провинциальных городах процесс перерождения цехов не был столь интенсивным и очевидным, тем не менее и здесь внешняя устойчивость традиционного уклада прикрывала ту же тенденцию.
В целом продолжавшийся постоянный контроль цеха за соблюдением средневековых стандартов изделий (скажем, ширины, длины и веса куска сукна, количества нитей в основе, наконец, требование пользоваться традиционными орудиями труда) превращал цеховой строй городского ремесла в серьезную помеху на пути технического усовершенствования производства, развития нецехового ремесла и вместе с ним капиталистической мануфактуры.
Даже из этого краткого очерка структуры английской промышленности в первой половине XVII века нетрудно заключить, что столкновение двух социально-экономических форм производства — мануфактурного и цехового[10] — создавало в этой сфере три очага социальной напряженности. На почве уклада традиционного — между мастерами и подмастерьями и учениками — внутри мастерской и между цеховыми корпорациями, захватившими в свои руки связи с рынком, и цехами «чисто» производственными, т. е. низведенными до положения экономически зависимых и обираемых. На почве уклада капиталистического — между работодателями и различными категориями работных людей: «домашними» рабочими, наемными рабочими централизованных мануфактур и т. п.