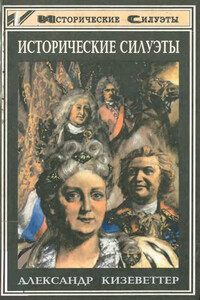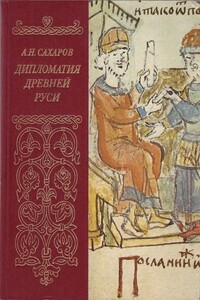Великая английская революция в портретах ее деятелей | страница 21
Особенно следует подчеркнуть то, что на долю Кристофера Хилла выпало решение, может быть, наиболее трудной из задач, стоявших перед современной историографией в данной связи, — достроить здание ее в той его части, которая включала сферу идей — религиозных и научных, социальных и политических, этических и эстетических. В результате им впервые создана систематически разработанная интеллектуальная история английского XVII века в целом и английской революции в частности.
Неудивительно, что в центре интересующих нас современных дискуссий находятся прежде всего построения К. Хилла и его школы и только на втором плане еще сохранившиеся в англоязычной историографии реминисценции вигских концепций. Итак, если сосредоточить внимание на основных направлениях происходящей в этой историографии «ревизии»[2] решений, то вкратце их можно обрисовать следующим образом:
1) историки, отрицающие, что события, развернувшиеся в Англии в 40-х годах XVII века, имели что-либо общее с тем, что в социологии (?) принято считать революцией (П. Лэслитт, А. Рутс). Характерно при этом, что среди аргументов, призванных оправдать эту позицию, мы находим и такой: современники событий не знали терминов, которыми историки нашего времени характеризуют их свершения (к примеру, «класс», «буржуазия»), а если отдельные из них им уже были ведомы, то они наполнялись содержанием, ничего общего не имеющим с тем, что вкладывает в них современная нам историография (к примеру, термин «революция» означал в обиходе XVII века «круговращение», «возвращение назад» и т. п.). Однако если следовать логике подобного аргумента до конца, т. е. если понимание реалий их современниками является вообще пределом исторического понимания, то очевидно, что о научной функции историографии и речи быть не может;
2) историки, отрицающие буржуазный и вообще социально-классовый характер гражданских войн 40-х годов (т. е. межклассовый конфликт), но согласные в «переносном» смысле именовать эти события, по крайней мере на отдельном их этапе, «революцией» (Д. Эйлмер, В. Коуард);
3) историки, выдвигающие на первый план в анализе событий 40-х годов консервативную (или «нейтралистскую») тенденцию, проявлявшуюся главным образом в среде провинциального джентри, в которой усматривается выражение «подлинного духа» политической нации[3] (X. Тревор-Ропер, Р. Эштон, Д. Моррилл);
наконец, 4) историки, отрицающие наличие в Англии первых Стюартов кризисной политической ситуации, которая позволяла бы усматривать в ней «пролог» грядущей революции. Равным образом они также не видят оснований рассматривать в качестве революционных намерения и деятельность Долгого парламента в период, предшествовавший началу гражданской войны (ноябрь 1640 — август 1642 г.) (Д. Илтон, К. Рассел, К. Шарп, П. Христиансон).