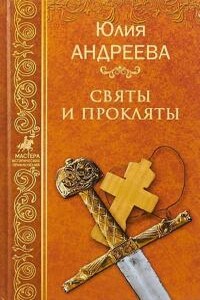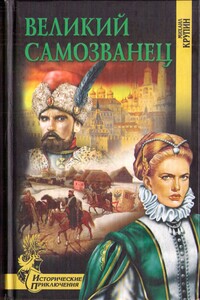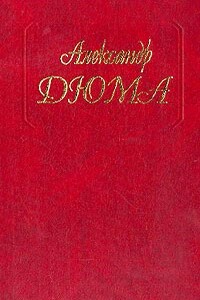Чертольские ворота | страница 19
Раз уж умнеть сердцем, яснея в молчании, дальше нельзя, Стась, прикинув дело, по старинке, по-гусарски решил: ладно, надо тогда хоть выезжать — и теперь приоткрывал для себя новый, в гуле слов и копыт, старый мир — солнце, золотой небесный песок ночи, леса вдоль дорог на балы... И свету встречных взглядов он открывался широко, но это лишь расположило к нему польский свет, где нарочитая распахнутость и широта, чуть подновляясь, век не снашивались, как излюбленная маска. Но даже лучше, если нрав ясновельможного ротмистра действителен — истинно легок, прост, раскован (как, впрочем, у многих, видевших смерть в деле и узнавших цену жизни). Это лишь упрочит общий банк.
Стась беседовал с красавицами запросто, живописуя им морозный юг России, воинский поход, сражения, нежно пестуя недобрые и грубоватые, да пламенисто-ясные солдатские словечки, каких почему-то не допускал с сестрами, как и разрывающиеся блаженно, точно пороховые бочонки, анекдоты-были сомнительного приличия... Все прощалось ему. Его молодость, свобода и свежесть вкупе с гусарством, игрой всех юнцов в опытность и с озадачивающей вдруг реальной искушенностью, его задумчивая высота, хромота мученика, ветерана, слагали героя неотразимого.
Поцелуи — украдкой, на лестницах, в салонных закутах — не заставили себя ждать... Стась думал с жадностью пить их, а они, как карнавальные бумажные цветы, сухие от нетающего серпантина, индевели на губах.
Солдат шел навстречу сияющим, в ответ его сказаниям, глазам — и все обманывался. Несколько чуть более продолжительных и обещающих встреч — и сияние устало меркло. И что тому причиной?.. Всплывающая чужеродность или злая страсть?..
Но чуть глаза девушек гасли, Стась начинал вдруг различать все неисправности вокруг них — носа, губ, ушей, подбородка, — словно неисправности самой души. Он с удивлением и неприязнью узнал в себе дикую привередливость отца. Только отец всегда капризничал при составлении смет и обставлении комнат (то не хватало стен, то мебели, то италийского изыска, то британской сдержанности слуг, то на все это денег), а Стасю уже не хватало и того, что отцом как бы само собою, изначально подразумевалось внутри этого амииро-зеркального мира. Не хватало уже и самого человека.
Но Стась и себя в образец никому бы не поставил. Когда он говорил (другие слушали), часто ему мерещилось, что говорит кто-то чужой. Как зряшные куски алебастра и мрамора, чьи-то подсохшие слова падали с неродных им, неуклюже выгибающихся губ...