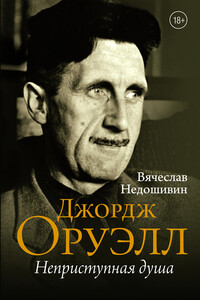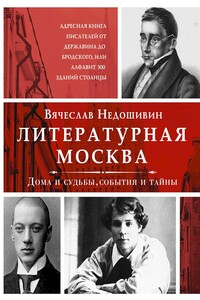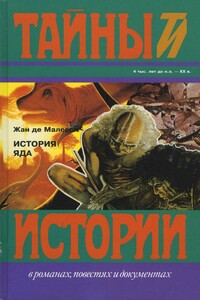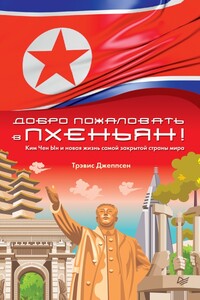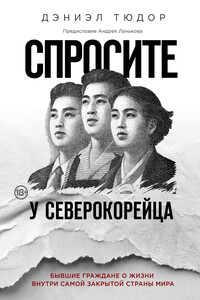«Третья война» подполковника Твардовского | страница 4
«Отцы и дети» - скажете? Да, дети всегда «идут» против отцов. Но тут схватка была идейной. Ибо ушел - в комсомол, в атеизм, в новую жизнь, когда в «красный угол» вместо иконы - Ленина да Маркса. Ну как тут не схлопотать подзатыльника, а то и вожжей?! Через пять лет, когда семью «раскулачат» и вышлют, он, твердолобый, задохнется от жалости и тогда же поймет, это уже - «непоправимое несчастье». Даже хуже - ссора семейная (типичная для эпохи) станет для него двойной виной - и перед Родиной, с ее тогдашними целями, и перед семьей, родом, землей. С нее начнутся две «биографии» его: одна в его книжках для народа, другая, тайная - в учетной партийной книжке - «сын кулака». Ведь не через 5, через 30 лет, при обмене партдокументов он будет писать самому Хрущеву, встречаться с Фурцевой, только чтоб изменить это «клеймо» - сын кулака. И - не сможет, не изменит, несмотря на сухую партийную переписку под грифом «секретно». Так и умрет с «двумя биографиями»: по парткнижке, и - по книжкам стихов. Не отсюда ли «правильность» его: ведь ему не простили бы и малости?..
Известно, в 14 лет он был уже делегатом ячейки комсомола, селькором (заметки о школах, избах-читальнях, о перевыборах в кооперации), а в 15 - секретарем сельсовета, и к нему, как к «значительному лицу», шли мужики с жалобами. В Смоленск приедет в кожушке с воротником из чалой шкурки и в стоптанных валенках. Бедным, но гордым. Когда увидит, что один поэт намазывает на булку масло, удивится: зачем же масло, она и так вкусная! Но с другом, юным писателем, засыпая под одной шубой в «приюте голытьбы», будет играть в игру, которую сам и придумает - называть по очереди 100 самых знаменитых людей. И нагло добавлять - 100 нам было не нужно, достаточно было 98, ибо два последних были мы сами. Верил себе да Некрасову, поэту, чей портрет в записной книжке носил с собой. Он, и возглавив журнал, будет встречать любого строкой как раз из Некрасова: «Сходится к хате моей больше и больше народу, ну, расскажи поскорей, что ты слыхал про свободу?» Верил в слова: в свободу, равенство, братство. Думаю, до тех пор, пока не случилась та «история» - с Македоновым. И пока та самая «смоляночка» не «спасла» его.
СЕМАФОРЫ СУДЬБЫ
Она сама нашла это место, «Танцовую рощу» - холм у железнодорожной станции Колодня, в четырех километрах от Смоленска. «Танцовая», ибо сосны здесь, словно приплясывая, «взбирались» к самой вершине. Городская девица, она любила приходить сюда за первыми подснежниками. «Несешь букетик через слободу, - вспоминала, - и то и дело слышишь: "Смотри, уже подснежники!.."» А еще под шатром из сосен любила до сумерек смотреть как внизу, на безлюдной станции, перемигивались семафоры. «Непричастность их к нашей жизни была столь определенна, словно они посылались на другую планету. Хотелось иной жизни, работы, прочности... Но красный или зеленый глаз был устремлен в пространство, печаль не слабела: красный не разрешал ехать, зеленый разрешал». Так пишет в воспоминаниях Мария Твардовская, а тогда, в 1930-м, просто Маша, будущий филолог, библиотекарь в педагогическом, где они и познакомились, та, которая на 40 лет, до смерти поэта, станет ему женой, читателем, критиком. Любила петь и, кажется, пела лучше, чем он. И писала стихи, да так, что Караганова, которая заведовала отделом поэзии в «Новом мире», уговаривала напечатать подборку, да она отмахнулась: «Неудобно». «Как она верила в него, - скажет нам дочь поэта. - Верила, когда называли «кулацким подголоском», когда травили, когда уже были арестованы его друзья, и был ордер на его арест». Был. Это правда. Он, как это ни странно, так и будет жить: либо ордер, либо - орден. Либо красный, либо зеленый семафор. А иногда и тот и другой - разом...