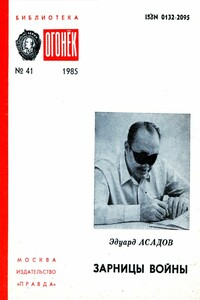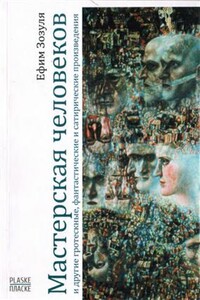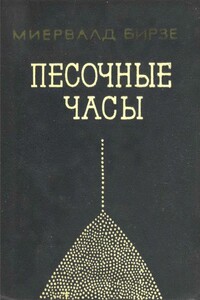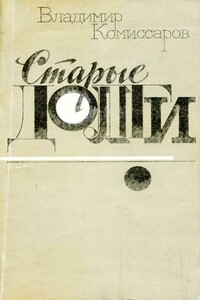Новеллы из цикла «Тысяча» | страница 24
Все эти светлые открытые глаза.
То тут, то там мелькает его рубашка, его неопределенное, вымытое лицо. Иногда кажется, что он страшно глуп, но забывают об этом мгновенно, как забывают о нем самом. Как-то не думается о нем:.
Шли годы. Его назначали на посты, снимали. Снимали без скандалов, назначали без торжеств. Он куда-то ездил, что-то возглавлял и всюду очень мало работал.
Сейчас он в Москве. Сидит, смотрит. Приходит на службу все в той же рубашке с расшитым воротником, вымытый, причесанный. Сидит, задает незначащие вопросы, курит, уезжает. Нельзя сказать, что его нет, но нельзя сказать, что он есть. Трудно сказать, что он делает, но нельзя сказать, что отсутствует. Где он?
– Не знаете, где Василий Иванович?
– Не знаю. Не видел. Посмотрите, пожалуйста, в этой комнате. Нет? Ну, значит, не пришел или, кажется в отъезде. Ах нет, он здесь, простите. Он вышел.
Идут годы. Была жена, теперь, кажется, другая. Тоже как-то неясно, неизвестно. Главное, не хочется знать. С годами отяжелел, расширился в плечах. Иногда брюзжит. Иногда упрямствует. Вдруг рассердится на кого-нибудь, и тут видно, что взгляд его уже не открытый, не светлый.
В последнее время часто болеет. Теперь он часто едет в отпуск. По необходимости. Сейчас уже это главное – отпуск, – а что было главным раньше – неизвестно. Особое уменье – незаметно жить, не обращать на себя внимание и не бросаться в глаза.
Волнение в городе. Стрельба. Толпы. Вдруг бегут. Все бегут! Он был в толпе человек в пятьсот. Толпа была прижата к дому. По мостовой неслись на грузовиках какие-то люди с винтовками. Внезапно один грузовик остановился, и озверевшие бандиты стали стрелять в упор в толпу. Пятьсот человек ринулись к двери магазина. Посыпалось со звоном стекло. Смертельная давка. Отчаянные крики. Кровь. Раненые. Он тоже хотел проникнуть в магазин, но кто-то сшиб с ног. Неизвестно, как это получилось – он оказался под ногами у обезумевших людей. Его топтал лес ног. Ему наступали на голову, на лицо, на грудь, на все тело. Он завыл, предчувствуя гибель. Он впился зубами в чью-то икру, разорвал ее до крови. Его остервенело били, но он продолжал впиваться в живое мясо. Окровавленными, полураздавленными пальцами он царапал навалившиеся на него тела. Он хрипел. Он пугал снизу отчаянным криком и, наконец, после неимоверных усилий, окровавленный и полураздавленный, все же встал и втиснулся в сумасшедший поток, врывавшийся в магазин сквозь обломки сломанной двери. И среди стонов и проклятий раненых он оглашал магазин диким! торжествующим криком: