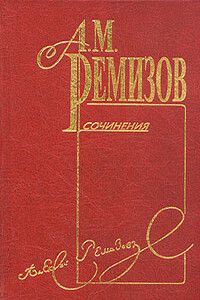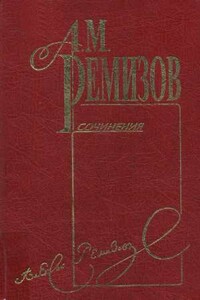Плачужная канава | страница 4
Заглянул Костя к колоколам, выше полез.
И когда достиг, наконец, верхнего яруса, едва уж дух переводил.
Но мешкать нечего было. Тотчас принялся за работу: взглянул по своим часам время, приподнялся на цыпочки и, закусив вялую губу, схватился окоченелыми руками за огромный рычаг.
Наседая всей грудью, стал вертеть.
И зашипели, стеня, пробужденные часы, зашипели нехотя, захрипели старческим простуженным горлом.
И опять замерли.
Нет, тикали – тяжело ходили и медленно переворачивались с боку на бок, отдавались на волю Божью, ибо конца не видели.
Не было им конца, не было силы остановить раз навсегда назначенный ход.
Захолодевший и озябший Костя вдруг отогрелся.
Ощеривая рот с пробитыми передними зубами, схватил он железный прут. И легко, как перышко, подбрасывая железо, бросился к оконному пролету, проворно вскарабкался на подоконник, изогнулся весь и, нечеловечески вытянув руку, дотронулся дрожащим прутом до большой стрелки, зацепил стрелку и повел вперед –
Побежали минуты бешеным бегом, не могли уж стать, не могли петь, и бежали по кругу вперед с четверти на полчаса, с полчаса на без четверти, на десять, а с десяти на пять, а с пяти на четыре…
Отвел Костя железный прут от часовой стрелки, которую самовольно подвел чуть не на час, и на страшной высоте в шарахающем противном ветре дожидался, когда пробьет.
И, выгнув длинно по-гусиному шею и упираясь костлявыми ладонями о каменный подоконник, смотрел вниз на копошившийся там, обманутый им город.
Не мог сдержать клокотавшего чувства власти>9; оно билось кровью в груди и в висках – во всем теле; не мог сомкнуть искривленных хохочущих губ.
Прыскали от хохота слезы, рассекались хохотом.
А стрелка шла, подходила к своей точке.
И вот ударил колокол чугунным языком в певучее сердце, ударил колокол свою древнюю неизменную песню – час свой.
Не мог остановить положенного боя.
Прокатились один за другим не девять, а десять ударов.
И хохотало – звенело, ужасалось, плакало, кричало от нетерпения в этом и в том и в десятом сердце.
Хохотало и плакало.
Луна, как здоровая женщина, задымленная хмелем морозного облака, нагая катилась по небу.
Сгущались погасшие звоны, лезли, дымились, покрывали собой красное пьяное тело.
И стало вдруг тихо до жути.
Только дикий крик пробивал эту тишь. Костя пел.
И, допев свою гордую песню, плюнул вниз на копошившийся город.
Не торопясь и медленно стал Костя спускаться, запер колокольню, пошел домой.
Не было на душе страха, не было боли, и лишь фыркал неусмирившийся хохот: