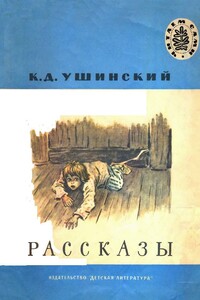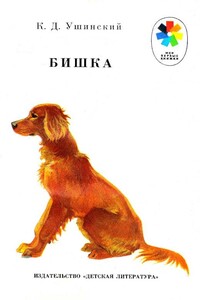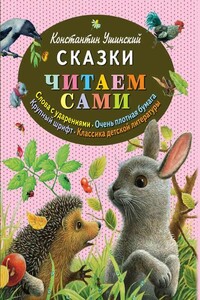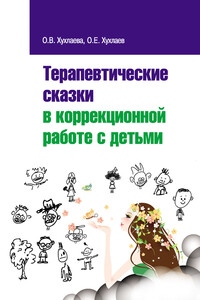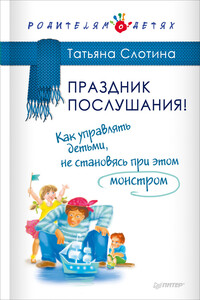Педагогические идеи К.Д. Ушинского | страница 44
Значение навыка в учении слишком ясно, чтоб о нем можно было распространяться. Во всяком уменье — в уменье ходить, говорить, читать, писать, считать, рисовать и т. д.-навык играет главную роль. В самой сознательной из наук, математике, навык занимает не последнее место, и если бы нам всякий раз должно было подумать, что 2 X 7 = 14, то это сильно задерживало бы нас в математических вычислениях; но за словами «дважды семь» язык наш механически произносит, а рука пишет — четырнадцать. В каждом слове, которое мы произносим, в каждом движении руки при письме, во всяком мастерстве есть непременно своя доля навыка, доля рефлекса, более или менее укоренившегося. Если б человек не имел способности к навыку, то не мог бы подвинуться ни на одну ступень в своем развитии, задерживаемый беспрестанно бесчисленными трудностями, которые можно преодолеть только навыком, освободив ум и волю для новых работ и для новых побед. Вот почему то воспитание, которое упустило бы из виду сообщение воспитанникам полезных навыков и заботилось единственно об их умственном развитии, лишило бы это самое развитие его сильнейшей опоры, а именно эта ошибка, заметная отчасти и в германском воспитании, много вредила нам и вредит до сих пор. Но об этом, впрочем, мы скажем подробнее в нашей педагогике. Здесь же заметим только, что навык во многом делает человека свободным и прокладывает ему путь к дальнейшему прогрессу. Если бы человек при ходьбе каждую минуту должен был с таким же усилием преодолевать трудности этого сложного действия, с каким преодолевал их во младенчестве, то как бы связан был он, как бы не далеко ушел! Только благодаря тому что ходьба превратилась у человека в навык, т. е. в его рефлекс, ходит он потом, и сам того не замечая, не замечая всех трудностей этого акта, а он так труден, что его едва ли бы могли одолеть животные, если бы, в противоположность человеку, не обладали этой способностью от рождения.
О воспитании чувств.
Первое педагогическое приложение
...Упрямство, как мы уже видели, есть не более как извращенное стремление к свободе. Бенеке[10] справедливо замечает, что с первого раза трудно отличить, отчего происходят настойчивые требования дитяти: оттого ли, что ему действительно хочется того или другого, или только оттого, что ему не дают того, что он хочет; в первом случае это страсть с положительным содержанием, во втором одно упрямство. Положительные страсти, как мы увидим ясно ниже, не могут быть обширны и сильны в детской душе, но зато и не находят себе в ней противодействия: страсть ребенка не велика, но зато он сам весь в своей маленькой страсти. Положим, ребенку что-нибудь обещали; это обещание пробудило в нем самые живые представления, и в ожидаемом счастье он сулит себе такое море наслаждений, что взрослому и вообразить себе трудно, как можно так сильно интересоваться такой безделицей. Не исполнится обещанное,— и горе ребенка, кажется, не знает пределов; но через минуту он уже утешен другой безделицей. Следовательно, тут не было сильной, укоренившейся страсти; но она была довольно сильна, чтобы на минуту подавить все еще слабые и, главное, разорванные, не связанные между собой ассоциации детской души. Если в этом случае ребенок сердится, плачет, кричит, то в этом высказывается страстное состояние души его, но не упрямство. Если, желая его утешить, ему подают другие предметы, а он их бросает, то и тут еще не видно упрямства; но если, наконец, ему дают тот предмет, который он так страстно требовал, а дитя и его бросает, тут уже обнаруживается начало упрямства.