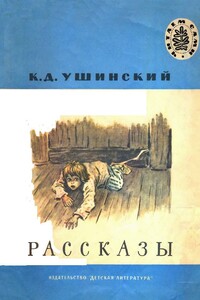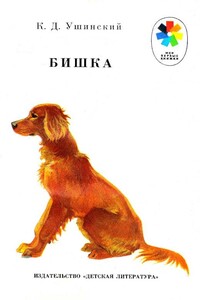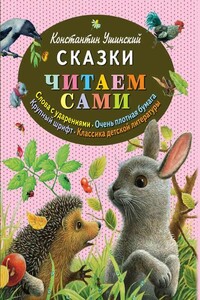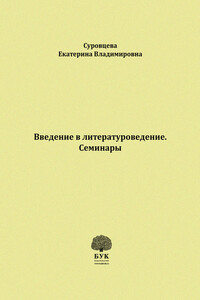Педагогические идеи К.Д. Ушинского | страница 41
В заключение просим извинения у наших читателей, что мы так долго задержали их на главах о привычке, но это и не могло быть иначе: на способности нашей нервной системы приобретать привычки, удерживать их и даже передавать их наследственно основывается главнейшим образом возможность воспитательной деятельности.
Нравственное и педагогическое значение привычек
Уяснив природу привычки, обратимся теперь к нравственному и педагогическому ее значению. Аристотель называет привычками мудрость, благоразумие, здравый смысл, науки и искусства, добродетель и порок, и если, как замечает Рид, он хотел этим высказать, что все эти явления усиливаются и укрепляются повторением, то мысль его совершенно верна. «Кто может,— спрашивает Бэкон,— сомневаться в силе привычки, видя, как люди, после бесчисленных обещаний, уверений, формальных обязательств и громких слов, делают и переделывают как раз то же, что они делали прежде, как будто бы они были автоматами и машинами, заведенными привычкою?»[4]. По мнению Макиавелли, в деле исполнения нельзя довериться ни природе человека, ни самым торжественным обещаниям его, если то и другое не закреплено и, как бы сказать, не освящено привычкою. Лейбниц, как мы уже говорили, три четверти всего, что человек думает, говорит и делает, приписывал привычке. Если Бэкон полагает, что «мысли людей зависят от их наклонностей и вкусов, речи — от образования и учителей, у которых они учились, и мнений, которые они приняли, но что только одна привычка определяет их действия», то такое ограничение области привычки одною практической жизнью зависит от того, что Бэкон не обратил внимания на смысл слов: «Наклонность», «вкус», «учение», «мнение», а то, без сомнения, он заметил бы, что во всех этих явлениях, которые он противополагает привычке, работают сильнейшим образом, если не исключительно, те же привычки и навыки.
Но если все более или менее согласны в громадном значении привычки в жизни человека, то в отношении ее нравственного и педагогического значения существует большое разногласие. Английское воспитание ставит на первый план сообщение детям добрых привычек; германское далеко не придает им такой важности, а Руссо, например, прямо говорит, что «единственная привычка, которую он даст своему Эмилю,— это не иметь никаких привычек»[5]; Кант тоже смотрит на привычку с презрением, и единственная допускаемая им привычка, и то для пожилого человека,—это обедать в свое время