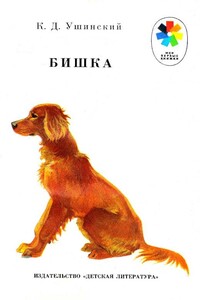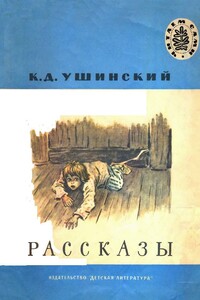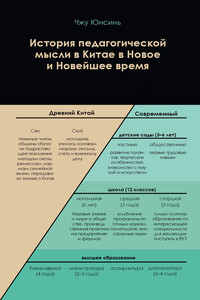Педагогические идеи К.Д. Ушинского | страница 12
Итак, целью воспитания является гармонически развитый человек, который находит самое высокое счастье в служении Родине, который живет интересами своего народа, который добр, благороден, честен, который обретает счастье в труде, в любви к людям. Воспитать счастливого человека — значит научить находить счастье даже тогда, когда ты беден, когда во имя великих целей лишился благополучия, когда помог ближнему, отказав себе в чем-то...
***
«Это прекрасный преподаватель, прекрасный воспитатель,— говорит молва, но в чем заключается его сила и откуда проистекает его искусство,— этого никто не знает, да этого и нельзя знать; до этого можно дойти только собственной практикой. Не правда ли, что это нечто вроде фокусов наших знахарок и шептуний? Неужели же искусство воспитания, это искусство развития сознания и воли, может оставаться на этой низкой ступени и не подымется даже на ту, на которой стоит медицина, собирающая факты, но основывающаяся на знании...» — вот какие вопросы задает Ушинский всему русскому обществу в своей первой блистательной статье «О пользе педагогической литературы». В чем же современность взглядов Ушинского на роль и назначение воспитателя?
В том, что воспитание может и должно стать такой же точной наукой, как преподавание, как архитектура, как физика и математика?
В том, что воспитатель должен обладать обширным кругом антропологических знаний: из анатомии, физиологии, политэкономии, истории цивилизаций, литератур и искусств, одним словом, всем, что касается человековедения?
В том, что воспитатель должен, наконец, знать ребенка во всех его отношениях?
Все это так.
Размышляя о роли воспитателя, о его основных качествах, Ушинский предстает перед нами как бы с двух сторон, характеризующих подлинность, если хотите, и современного педагога, того педагога, в котором так нуждается современная школа.
С одной стороны — это мыслитель, сформировавшийся в философской среде, познавший всю сложность и диалектичность воспитательного процесса. И как мыслитель он понимает, что в педагогике не может быть рецептов и догматически очерченных правил. Личность ребенка формирует главный воспитатель — жизнь «со всеми ее безобразными случайностями». Перекликаясь с Чернышевским, он подчеркивает, что стоит только отстранить «пагубные обстоятельства», создать атмосферу свободы и творческого труда, как непременно просветлеет ум человека и облагородится его характер.
Но вместе с тем и создание атмосферы труда и благоприятствующих обстоятельств, овладение даже самыми совершеннейшими методами воздействия, еще не приведут к желаемым результатам. И тому пример иезуитского воспитания. По тем временам иезуиты могли создать прекрасные условия в своих школах. Владели искусством воздействия на личность ребенка. Но это было «искусство», враждебное самой природе человека, самой идее гуманизма. В жестоких хищных руках иезуитов искусство воспитания оборачивалось и свою противоположность — в издевательство над детьми, превращающее ребенка в слепое орудие чужой воли, в послушного робота.