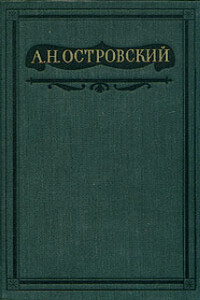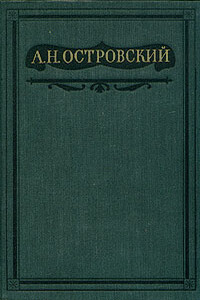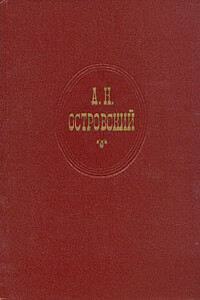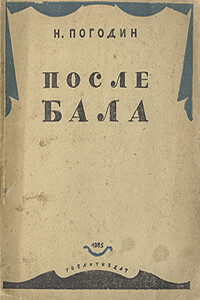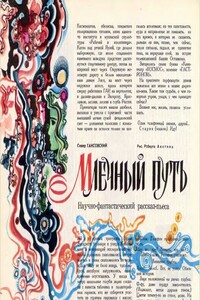Не в свои сани не садись | страница 39
Новая волна полемики вокруг этой пьесы поднялась в критике в 1859 г. в связи с выходом в свет первого Собрания сочинений Островского. В «Отечественных записках» критик под инициалами Н. Н. писал, что автор своею комедией хотел «указать на преимущества патриархального быта пред бытом цивилизованным» и что для выполнения этой задачи он «выбрал изо всего русского купечества отдельные черты и черточки, чтоб составилась из них светлая, но зато абстрактная личность Русакова, которую и ставит он в противоположность с пошлою личностью Вихорева <…> Только отдельные сцены тут прекрасны; в общем же нет цельности и строя; в ходе действия нет естественности; натяжки на каждом шагу; характеры исполнены несообразностей. Идеальные личности Русакова, Дуни, Бородкина были бы хороши, если б только уничтожить их идеальность; Баранчевский совершенно лишний в пьесе, Вихорев искусствен и бесцветен; личности: Маломальского, жены его Анны Антоновны и дуниной тетки Арины Федотовны, превосходны».
С язвительной иронией писал о героях комедии и критик «Атенея» Н. П. Некрасов, находивший, что в пьесе очень силен «дидактический элемент». «Маломальский один, действительно, лицо комическое и довольно оригинальное. Бородкин — это чудный герой в поддевке для нашей православной драмы. Какая покорность! Какая добрая душа у него! Одно слово: голубь!». Иного мнения придерживался А. В. Дружинин. «Написанная прежним превосходным языком, — писал критик, — простая и незамысловатая по интриге, исполненная жизни и драматических положений, новая комедия была прежде всего писана для сцены и до сих пор остается одной из любимейших пьес в русском репертуаре…». Беря под защиту комедию от критиков крайне «западнических» взглядов, Дружинин так объяснял смысл пьесы: «…замысел Русакова и Бородкина, честных русских людей, был новой ступенью правдивого сознания <…> симпатические и положительные стороны русского купеческого быта представляли свою завлекательную сторону для комика…» Дружинин не сомневался в том, что «изучение светлых сторон данной жизни для Островского не могло перейти в розовый цвет, односторонность или идилличность. Для этого наш автор был слишком поэтом, — утверждал критик, — то есть человеком по преимуществу зорким. Он мог иногда не доканчивать своих изображений, иногда не доходить до ясного воплощения своих замыслов (как, например, в Бородкине), но до сладкой идиллии, конечно, ему нельзя было унизиться».