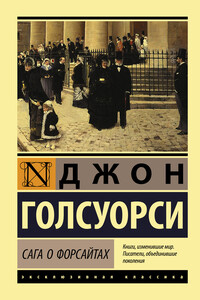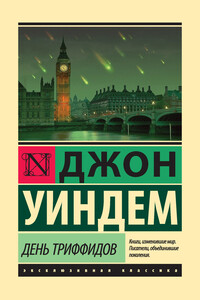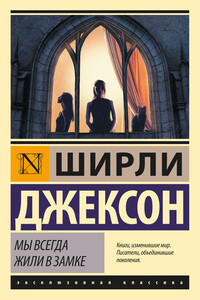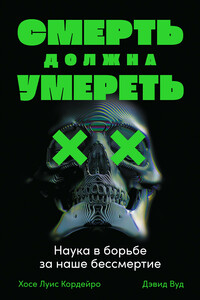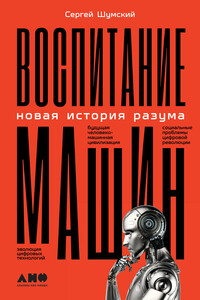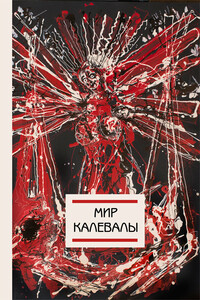Что за безумное стремленье! | страница 87
В то время прямое секвенирование как ДНК, так и РНК представлялось безнадежной затеей, но мы полагали, что при благоприятных условиях можно задать набор мутаций в пределах одного гена, используя обычные генетические методы. Поскольку генетические расстояния были, по-видимому, невелики, ожидаемая частота рекомбинаций должна была быть существенно ниже, чем та, с которой обычно имеют дело генетики. Из этого следовала необходимость изучить большое количество потомства, а значит, нужно было использовать какой-то микроорганизм, например, бактерию или вирус.
Рассортировав мутантные последовательности, на следующем этапе можно было бы соотнести изменения в аминокислотах с каждой мутацией. Хотя секвенирование белковой цепочки тогда оставалось еще трудоемким, Фред Сэнгер продемонстрировал, что оно возможно, и мы ожидали, что, если взять белковую молекулу малых размеров, эта задача не окажется непосильной.
Однажды летом 1954 г., сидя на траве в Вудс-хоул, я изложил эти идеи польскому генетику Борису Эфрусси. Борис, работавший тогда в Париже, особенно интересовался генами дрожжей, которые как будто находились вне клеточного ядра. Теперь мы знаем, что такие цитоплазматические гены принадлежат ДНК митохондрий клетки, но в ту пору о них было известно лишь то, что они ведут себя иначе, чем ядерные гены. Борис разозлился. «С чего вы взяли, – осведомился он, – что аминокислотная последовательность кодируется не цитоплазматическим геном? Может быть, единственная функция ядерных генов в том, чтобы задавать нужную укладку белка?»
Может быть, Борис и сам в это не верил (я не поверил точно), но его вопрос заставил меня осознать, что сперва нам нужно продемонстрировать влияние единичной мутации в ядерном гене на аминокислотную последовательность белка, которую он кодирует, – возможно, изменение всего лишь одной аминокислоты. По возвращении в Кембридж я решил, что этим и нужно заняться на следующем этапе.
Какой организм использовать, какой белок изучать, было непонятно. Вскоре к нам в Кавендишскую лабораторию пришел работать Вернон Инграм. Его основная задача состояла в том, чтобы добавлять тяжелые атомы к молекулам гемоглобина или миоглобина для облегчения работ с дифракцией, но вместе с ним мы решили подступиться к генетической проблеме. Мы догадались, что на начальном этапе нам не нужно полное картографирование гена. Все, что нам требовалось, – чтобы генетической информации хватило для доказательства того, что мутация наследуется по-менделевски и, следовательно, относится к ядерному гену. Не требовалось и определять местоположение измененной аминокислоты в белковой последовательности. Нужно было лишь продемонстрировать, что в последовательности имеет место изменение, вызванное мутацией. Мы считали, что это облегчит задачу, поскольку в таком случае от нас требовалось всего лишь изучить аминокислотный