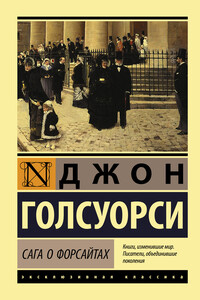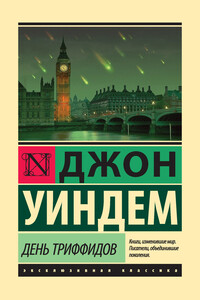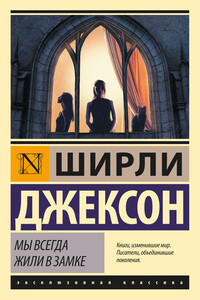Что за безумное стремленье! | страница 35
В те времена рентгеновские лучи фиксировались на специальную фотопленку, которую затем проявляли по сути так же, как проявляют обычные фотонегативы. В наше время их улавливают и измеряют с помощью счетчиков. Специальная камера вращала кристалл в рентгеновском луче, а с ним и фотопленку, чтобы фиксировать дифракцию по частям.
Хотя я, вероятно, проходил это в студенчестве, когда учился на физика, к тому времени я уже многое забыл и имел лишь приблизительное представление о том, чем занимается Перуц. Я узнал, что кристаллы белков обычно содержат много воды, скрытой в промежутках между крупной молекулой и ее соседками. В сухих условиях кристалл может съежиться, потому что молекулы белка упаковываются плотнее, и как раз этапы его сжимания изучал Перуц. Если сухость была слишком высока, расположение молекул нарушалось, так как громоздкие молекулы тщетно стремились сблизиться друг с другом максимально. Элегантный узор рентгеновской дифракции из множества отчетливых точек деградировал до нескольких туманных пятен на пленке. При дифракции правильные трехмерные структуры дают целую серию дискретных пятнышек, как еще много лет назад показал Брэгг.
Мне также была известна главная проблема рентгеновской кристаллографии. Даже если бы было возможно измерить интенсивность всего множества пятнышек (по тем временам неподъемная задача) и даже если бы атомы кристалла располагались настолько правильно, что пятнышки могли бы отобразить даже мелкие детали его строения, математические расчеты ясно показывали, что пятнышки могут дать только половину информации о трехмерной структуре. [Выражаясь технически, пятнышки показывали интенсивность всего множества Фурье-компонентов, но не их фазы.] Если бы каким-то чудом удалось определить положение каждого атома, то стало бы возможным (пусть и чрезвычайно трудоемким в те дни) точно рассчитать картину рентгеновской дифракции, а также вычислить недостающие сведения о фазах. Но мы располагали только пятнышками, и теория предсказывала, что одну и ту же картину могут дать самые многообразные возможные варианты распределения электронной плотности. Было нелегко установить, какой из этих вариантов верен.
В последние годы было продемонстрировано – главным образом в работах Джерома Карле и Херберта Хауптмана, – как выполнить эту задачу для малых молекул, внеся в расчеты различные естественные ограничения. За эти работы они получили Нобелевскую премию по химии 1985 г. Но даже в наше время подобные методы сами по себе не годятся для крупных молекул большинства белков.