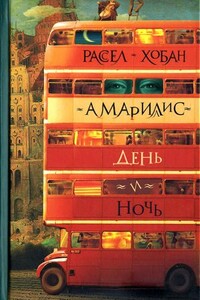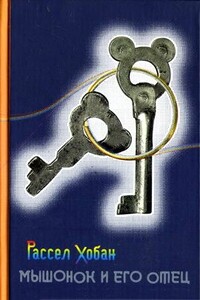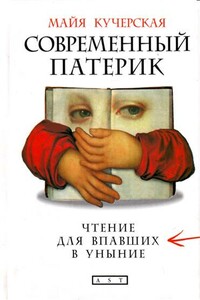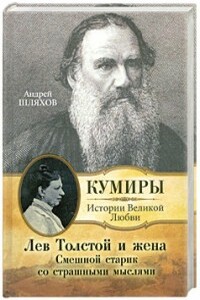Лев Боаз-Яхинов и Яхин-Боазов. Кляйнцайт | страница 106
Никакого волшебства. Всамделишность невыносима, неизбежна. Свирепая смерть. Свирепая жизнь. Быть за всеми мыслимыми пределами. Быть беспредельным, ужасающим, свирепым посредником между смертью и жизнью, безразличным к обоим, презирающим смертные различья. Нахмуренные брови. Янтарные глаза, светящиеся и бездонные. Раскрытые челюсти, горячее дыхание, розовый шершавый язык и белые зубы конца света. Яхин-Боаз чуял льва, видел, как тот дышит, как ветерок колышет его гриву, как мускулы перекатываются под смуглой шкурой. Необъятный, лев властвовал над пространством и временем. Отчетливый, впереди самого воздуха вокруг себя. Непосредственный. Сейчас. Больше ничего.
– Лев, – произнес Яхин-Боаз. – Ты ожидал меня перед рассветами. Ты ходил со мной, ел мое мясо. Ты был внимателен и равнодушен. Ты нападал на меня и отворачивался. Ты был зрим и незрим. Вот мы здесь. Теперь есть только то время, что есть… Жизнь, – сказал Яхин-Боаз. Шагнул влево. – Смерть, – сказал он. Шагнул назад вправо. – Жизнь, – произнес он, спокойно посмотрел на льва, пожал плечами. – Карт нет, – сказал Яхин-Боаз. Развернул карту, которую держал, свернул ее иначе, чтобы сплющилась, чиркнул спичкой, поджег ее. Затанцевали язычки пламени. Он выронил карту, когда пламя поглотило ее, океаны с континентами потемнели, корчась в огне. – Карт нет, – повторил Яхин-Боаз.
Он вспомнил Боаз-Яхина младенцем, как тот смеялся при купании в раковине. Вспомнил, как пела жена. Он вспомнил, каким был живот Гретель под его губами, вспомнил, как Боаз-Яхин, еще мальчик, стоит у лавки и заглядывает в окно, его маленькое таинственное лицо, затененное навесом. Вспомнил пальмы и фонтан на площади.
– Назад пути нет, – сказал Яхин-Боаз.
Как раньше давно, в уме у него возникли слова, большие, вселяющие веру и почтение, словно изречение бога заглавными буквами:
ЗАПЕТЬ ПРЕД ЛИЦЕМ ЛЬВА
Яхин-Боаз заглянул в глаза льву. Кто-то спускался по ступеням с моста с гитарой, играл на гитаре, играл львиную музыку.
Яхин-Боаз не трепетал. Голос его был тверд. Его даже удивило, насколько силен его голос, как приятен. Он пел: