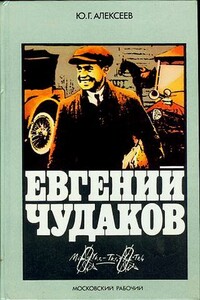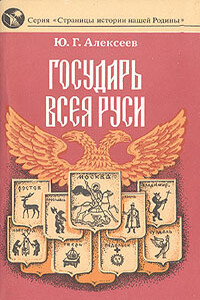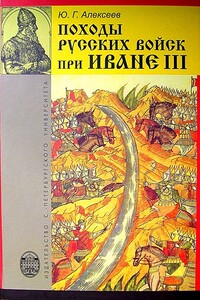Освобождение Руси от ордынского ига | страница 27
«Не мога того терпети», князь Лыко отъезжает в другой удел — на Волок к князю Борису Васильевичу. Этим он реализует феодальное право отъезда, зафиксированное во всех межкняжеских договорных грамотах («а боярам и слугам межи нас вольным воля»). Однако в то же время отъезд от суда великого князя — акт открытого неповиновения великокняжеской власти. Это формальная, хотя и важная сторона дела. Еще более важна, однако, сама причина неповиновения: великий князь решительно встал на сторону горожан в их конфликте с наместником. В этих условиях отъезд князя Лыка приобретает характер политического протеста, в основе которого лежат определенные социальные мотивы: стремление феодальной аристократии сохранить и в новых условиях на службе великого князя свое исключительное положение, особые права и привилегии.
Воспринимая, по-видимому, отъезд князя Лыка как бегство от суда по делам о злоупотреблениях властью и как акт неповиновения, великий князь велит схватить беглеца «серед двора» приютившего его удельного князя. Происходит открытая схватка — посланец великого князя Юрий Шестак отбит князем Борисом.[116] Миссия Шестака — явное нарушение и формальных суверенных прав удельного князя, и старой феодальной традиции.[117] Цель ее, по-видимому, не в том, чтобы вызвать конфликт с Борисом Волоцким, а в том, чтобы добиться торжества справедливости (в понимании великого князя) по отношению к беглецу. Поэтому посылается вторая миссия (А.М. Плещеева),[118] уже вполне корректная, с просьбой о выдаче князя Лыка. Однако Борис Волоцкий категорически отказывается сделать это, взяв на себя как суверенный владелец удела «суд и управу» по делу Лыка.
Великий князь предпринимает третью попытку добиться своего. Видимо, в его глазах дело Лыка — опасный прецедент. Зимой 1479 г. Лыко, наконец, был тайно схвачен в своем селе наместником Боровского уезда В.Ф. Образцом и привезен в оковах в Москву.[119]
Отъехав к удельному князю, Лыко сохраняет свои земли в Боровском уезде, тянущем к Москве. Феодальное право отъезда, зафиксированное в межкняжеских докончаниях XIV–XV вв., продолжает еще формально действовать: «А боярам, и детем боярским, и слугам промеж нас вольным воля. А хто моих бояр, и детей боярских, и слуг имет жити в твоей отчине, и тебе их блюсти, как и своих». Эта традиционная норма была вновь подтверждена в докончании 1473 г. великого князя с Борисом Волоцким.[120] Отъезд к удельному князю еще не рассматривается как прямая измена и не влечет за собой немедленной конфискации вотчин.