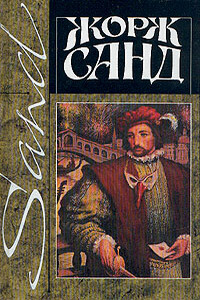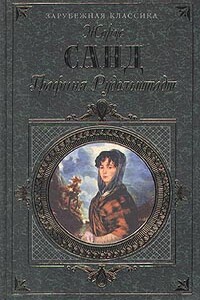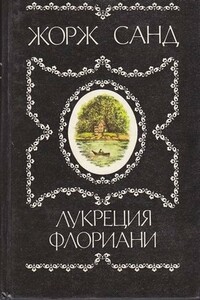Лавиния | страница 8
— Ах, Генрих! В том-то и было все затруднение. Она любила меня так, что я не мог решиться назвать ее моей женой. Каждый здравомыслящий человек согласится, что жена должна быть подругой кроткой и тихой, как все наши англичанки. Бешеная любовь должна быть ей незнакома, так же, как и ревность. Она должна спокойно сидеть и пить по несколько раз в день зеленый чай. А эта уроженка Португалии, девушка с пламенным сердцем и с пылким характером, рано приученная к деятельной сердечной жизни, к свободе обращения, ко всем опасным идеям, которых женщины набираются, кружась по свету — она сделала бы меня самым несчастным, если не самым смешным из всех мужей в Англии. Пятнадцать месяцев не верил я неизбежным несчастьям, какие приготовляла мне эта любовь. Я был так молод тогда — мне было только 22 года. Вспомни об этом, Генрих, и не обвиняй меня. Наконец я открыл глаза, в ту самую минуту, когда был уже почти готов сделать величайшую из глупостей — жениться на женщине, до сумасшествия в меня влюбленной! Я остановился на краю пропасти и бежал, чтобы убежать от своей несчастной судьбы…
— Лицемер! Лавиния рассказывала мне вашу историю совсем иначе. Кажется, что задолго до жестокого решения, заставившего тебя ехать в Италию с Анджелой, бедная Лавиния надоела тебе, и ты слишком явно давал ей чувствовать скуку, тяготившую тебя с нею. Когда Лавиния говорит о тебе, в ней не заметно ни малейшей на тебе злобы. Она признается в своем несчастии и в твоей жестокости с такою простодушной скромностью, какой я никогда еще не замечал в других женщинах. У нее есть какая-то особенная, ей только свойственная манера говорить простые слова: «Что же делать! Я надоела ему!» Право, Лионель, если бы ты слышал эти слова, как она умеет сказать их, с выражением какой-то добродушной грусти, совесть замучила бы тебя — я уверен в этом…
— А разве она мало меня мучила! — сказал Лионель печально. — Что более всего отучает нас от женщины, которую мы некогда любили? Страдание, какое чувствуем мы за нее, расставшись с ней; тысячи упреков самому себе, преследующих нас при воспоминании о ней; голос света, который бестолково гремит против нас проклятиями; угрызение собственной нашей совести; нежные и жестокие жалобы оставленной, долетающие до нас со всех сторон… Поверь мне, Генрих, я не знаю ничего скучнее и несноснее состояния счастливого любовника!
— Кому ты это говоришь? — отвечал Генрих важным тоном и с насмешливой улыбкой, которая очень шла ему.