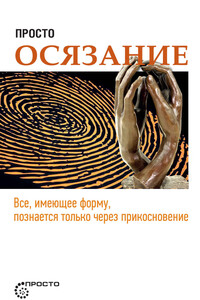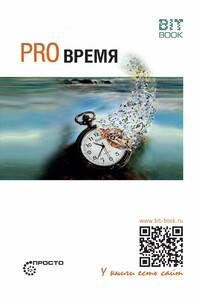Неофеодализм. Ренессанс символизма | страница 77
«Слова эти, красные, зеленые, голубые, черные и золотистые, отогревались у нас на ладонях и таяли, как снег, и мы их подлинно слышали, но не понимали, оттого, был язык тарабарский… Как бы то ни было, Пантагрюэль бросил на палубу еще три-четыре пригоршни. И тут я увидел слова колкие, слова окровавленные, которые, как пояснил лоцман, иной раз возвращаются туда, откуда исходят, то есть в перерезанное горло, слова, наводившие ужас. И другие, не весьма приятные с виду…»
Наступило время, когда формальная комбинаторика символов, основанная на чувственном восприятии, не могла добавить ничего нового к уже сказанному. Требованием нового времени становится познание связей вне чувственного опыта! Но символическое мышление не могло отказаться от непосредственного чувственного восприятия. Понимая, что взору представала загадка, ее тем не менее трактовали и так и эдак, пытаясь разобрать изображения в зеркале, объясняя одни образы посредством других и ставя зеркала друг против друга.
Чувственное восприятие всё меньше помогает концентрации внимания, всё больше распыляет устремления средневекового человека. Потребность в массовой ориентации и синхронизации всё реже находит опору в чувственном восприятии, всё чаще находит опору в рациональном или причинно-следственном мышлении. Рациональное мышление и раньше не было столь уж чуждым для Средневековья, как это порой представляется. Но на закате эпохи оно выходит на передний план. При этом рациональное восприятие не вытесняет, но как бы произрастает из чувственного.
Формализм уже не поддерживал живое дыхание средневекового символизма, но доминировал над ним. Позже, в эпоху Ренессанса, пристальный и внимательный поиск скрытых линий причинной зависимости между вещами и явлениями послужит развитию естественных наук. Идея непрерывности и причинно-следственное мышление в XVII веке станут само собой разумеющимися. Но на закате Средневековья символическое мышление стремится разорвать путы формальной логики.
Быть может, последним аккордом живого символизма была «пламенеющая готика» – безудержное прорастание формы за пределы идеи.
Изящные детали переплетаются и становятся узором, покрывающим все доступные взору поверхности храмов. В этом стиле словно господствует страх пустоты.
Такой же отрыв от земли и страх пустоты ощущается в позднем барокко на закате эпохи Возрождения. Эти «отрыв и страх» – словно предвестники осени духовных периодов. И если так, то наш культурный барометр еще не предвещает осень. Искусство нашего времени еще только заигрывает с пустотой. «Черный квадрат» Малевича или инсталляция «Memory» Аниша Капура (Anish Kapoor) в музее Гуггенхайма, Нью-Йорк (2009) не вызывают массового страха. Быть может, потому, что они еще не встроены в ассоциативный ряд с черными дырами, белыми карликами и коричневыми шумами, знаменующими исток и конец реальности. Подобным творческим артефактам еще предстоит стать символами, вокруг которых со временем еще появится область массового страха пустоты. Страх – сильная эмоция. И средневековый дух вынужден постоянно противостоять страху.