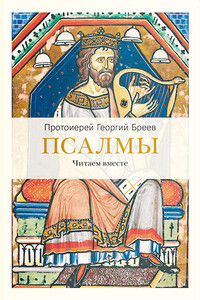Практика подготовки к Исповеди и Причастию | страница 44
Духовность раскрылась, когда после революции начались гонения. Вот тогда все поняли, что Церковь как собрание верующих поддерживается только Евхаристией и частым причащением: сегодня ты жив, а завтра тебя арестуют, храм взорвут… Появилась жажда богообщения.
А в послевоенные годы открытых храмов было мало, и некоторые священники не желали, чтобы больше народу причащалось, потому что приходилось много исповедовать. Но как поисповедовать 500–600 человек за полчаса? В тех условиях спасала общая исповедь.
Общая исповедь началась с Иоанна Кронштадтского, потому что к нему в Андреевский собор приходило по десять тысяч кающихся, и он физически не мог у каждого принять исповедь. Но он говорил им слово, пронизанное такой энергией благодати, что люди каялись, рыдая и бия себя в грудь… А потом священники накладывали им на голову епитрахиль и причащали эту толпу по нескольку часов.
Вот я, молодой священник в московском храме, пришел служить литургию, и настоятель мне говорит: «Иди, батюшка, исповедуй, там сегодня человек четыреста исповедников, а к „Отче наш“ ты уже должен исповедь закончить и прийти в алтарь». Как? Как?! Я и не знал, кто такой Иоанн Кронштадтский, книг его не читал, тогда православная литература не издавалась, но я почувствовал, что если я не скажу людям слово от души, от сердца, чем я сам живу, то они будут причащаться такими, какими пришли. И вот я выходил, сперва подобрав короткий текст из Евангелия, например: Если не покаетесь, все погибнете (Лк. 13: 3), брал его за основу и прямо на ходу начинал развивать тему. Если это был праздник, то выбирал текст из тропарей праздничного канона, из стихир, в них всегда найдешь зерно, где отражена потребность христианской души приступить к Богу с глубоким раскаянием. Минут 15–20 я говорил, смотришь, у одного слеза потекла, у другого… Я увидел, что слова доходят до сердец, и понял, что так и надо делать. А потом читал общую молитву, чтоб Господь всем, кто каялся, простил грехи, и накладывал епитрахиль; что-то экстренное можно было исповедать в этот момент.
На приходе служили два-три священника, а в праздник на раннюю службу приходило причаститься человек 600 и на позднюю столько же. Столько даже причастить одному священнику невозможно, поэтому и нужно было, поисповедовав, сразу идти помогать. За режимом следили власти, из исполкома приходили: «Что-то у вас службы затянулись… Вы там давайте, вовремя заканчивайте, чтоб в двенадцать часов народу не было в церкви…» А уж если воскресенье приходилось на какой-нибудь советский праздник, то даже расписание меняли, раннюю и позднюю не служили, а служба свершалась одна, в восемь часов утра – до десяти. Демонстрация идет, в рупор что-то кричат, музыка играет, а тут в храме народ стоит… Верующие все это знали и никаких претензий к священникам не предъявляли. Но священник сам понимал, что надо что-то сделать, чтобы зажечь в людях хоть маленький огонек веры, покаяния, любви к Богу, понимания, что мы не делаем в жизни самого важного…