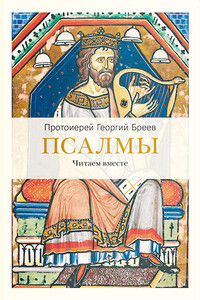Практика подготовки к Исповеди и Причастию | страница 41
И от кого исходила традиция редкого причащения – от людей подвижнического устроения, пустынников… Почему – потому ли, что им надо было преодолевать огромные расстояния до храма? Или же они, начиная и заканчивая день чтением Евангелия, Псалтири, молитв, не ощущали необходимости в частом причащении? У святых отцов встречается интересное указание о том, что есть такое понятие, как духовное причащение: если подвижник постоянно держит ум в слове Священного Писания, он может и редко причащаться, даже раз-два в год, но его духовное состояние таково, что единство с Богом никогда не нарушается. Это все очень тонкие материи, не касающиеся собственно таинства Причащения. Пустынники не занимались мирскими делами, их образ жизни – труд и молитва, умное созерцание, погружение в священные тексты; многие из них сами составляли молитвы. Они были в Духе Божием…
Есть такая притча про трех простецов, рыбаков, которых выбросило на остров в Белом море, они так молились Святой Троице: «Трое Вас и трое нас, Господи, помилуй нас!» Потом к ним приплыл архиерей и научил их молитве «Отче наш». Они обрадовались, но тут же забыли слова и побежали за лодкой по воде, спросить, как правильно. Ну что им сказать: как молились, так и дальше молитесь. Эти простецы были в Духе. А быть в Духе Божием – это значит Христос верою вселяется в сердца ваши (Еф. 3: 16–17).
Верою Христос вселяется в сердца наши – мы внимаем слову Божию и силу слова Его в себя вбираем. Это и есть духовное причастие для подвижника, ведущего внимательную, строгую жизнь. У пустынников была практика исповедания помыслов: монах почувствовал свою неисправность, пришел к духовнику, пал на колени, исповедал греховный помысел – и его духовное состояние восстановилось, в нем опять заиграл Дух, снова явилась сила Божия. Но мы-то живем в миру, встали утром и крутимся: детей в школу отвести, на работу не опоздать, и пошло-поехало… Как себя сохранить, ну как? Не знаю. Только вижу, что я обновляюсь во время Причастия. Когда я служил и причащался два раза в неделю, то чувствовал, что у меня восстанавливается баланс внутреннего духовного состояния. Сейчас служу только воскресную литургию и в праздники и ощущаю, как мне не хватает еще одной литургии. Два-три раза в неделю причащусь – и то, что у меня было, снова приходит ко мне – ясность мысли, внутренняя сила. Священники по опыту знают, откуда все рождается.
Святитель Феофан Затворник Вышенский в свое время был за то, чтобы как можно чаще причащаться. Святой праведный Иоанн Кронштадтский тоже на этом настаивал и удивлялся, почему приступали к Причастию один-два раза в году. Он просто не мог этого вместить: вот он выходит с Чашей, в его руках – Христос, вот Его Тело, вот Его Кровь, как же не причащаться? «Приидите, ядите, Сие есть Тело Мое… Сия есть Кровь Моя… Пийте…» И я всегда воспринимал этот призыв на литургии как обращение к нам. Кого же тогда приглашает Христос – только одного священника? Или всех, кто стоит в храме? Этот открытый призыв Бога, обращенный к Своей Церкви, к Своим чадам, должен быть во главе угла!