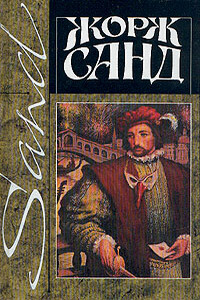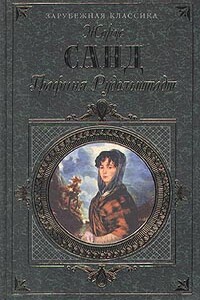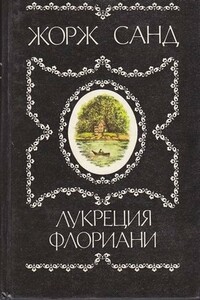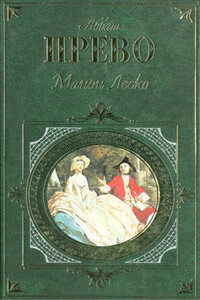Il primo tenore | страница 28
Хорошенькая пятнадцатилетняя синьорина, со своими прелестными беленькими ручками и выразительными черными глазами так и вертелась у меня в голове.
Однажды не мог я больше выдержать, схватил шляпу, сумку, свистнул собаку и отправился на охоту, забыв взять только ружье. Я долго бродил вокруг виллы Гримани, но не видал ни души, не слыхал ни малейшего человеческого звука. Все решетки парка были заперты, и я заметил, что в большой аллее, сквозь которую видна нижняя часть дома, срублено несколько деревьев, которые своими густыми листьями совершенно закрыли фасад. Неужели же эти баррикады сделаны с намерением? Мщение ли это кузена? Предосторожность ли, принятая теткой? Или лукавство самой синьорины? О, если б я только мог это подумать! Но я этого не думал. Мне приятнее было предполагать, что она тоскует о том, что меня не видит, и что сама заключена как бы в неволе, и я делал множество смешных и нелепых предположений, как бы освободить ее.
Возвратясь в Кафаджоло, я нашел в комнате Кеккины хорошенькую крестьяночку, и тотчас узнал ее: то была молочная сестра синьоры Гримани. Кеккина без церемоний посадила ее в ногах у себя на постели, и как скоро я вошел, она сказала:
— Эта хорошенькая девушка хочет с тобою поговорить, Лелио. Я приняла ее под свое покровительство, потому что Катина непременно хотела ее выгнать. По ее скромному виду я тотчас догадалась, что она честная девушка, и не делала ей никаких нескромных вопросов. Не правда ли, красавица? Полно же конфузиться! Поди в гостиную с синьором Лелио. Я совсем не любопытна и никогда не мешаю моим приятелям; у меня и без того много дел.
— Пойдем, душенька, — сказал я, — и не бойся; ты здесь с честными людьми.
Бедняжка стояла задумавшись, не зная, что делать, и в таком смущении, что жалко было смотреть на нее. Хотя до тех пор у нее доставало духу скрывать, за чем пришла, однако, в замешательстве своем, она то вынимала до половины из кармана своего передника какое-то письмо, то опять его прятала, не зная, о чем больше заботиться — о чести госпожи или о своей собственной.
— О, Боже мой! — сказала она наконец дрожащим голосом. — Я боюсь, чтобы эта синьора не подумала, что я пришла с какими-нибудь дурными намерениями…
— Я! Не беспокойся, моя милая; я ровно ничего не думаю, — вскричала добрая Кеккина, развернув книгу и смотря в нее сквозь лорнет. У нее были очень хорошие глаза, но она думала, что светской женщине непременно надо иметь слабое зрение.