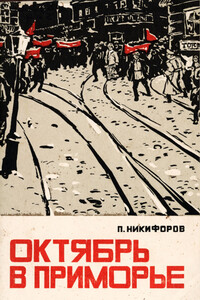Переселение. Том 2 | страница 13
— Замолчи! — крикнула Анна.
— А сейчас, — продолжала Варвара, — стал подозревать меня в том, что я к Павлу неравнодушна. Я ему твержу, что он сошел с ума, что стыдно говорить такие вещи жене, что я к Павлу ничего, кроме родственных чувств, не питаю, но все впустую. Запретил мне обнимать или целовать Павла. «Убью, говорит, если увижу еще раз, что ты этому каланче на шею вешаешься!» Ребенок, сущий ребенок! А когда я сейчас выбежала за ним, он все свое талдычил: «Пустовка, пустовка, пустовка». Не хочу больше терпеть.
Анна заклинала ее никому об этом даже не заикаться, но Варвара сказала, что молчать не намерена и что уедет к отцу. И потом добавила как бы между прочим:
— Если бы меня выдали за Павла, я уверена, у нас давно были бы дети.
Бедная Анна, услыхав это, ахнула и отпрянула в сторону.
Но Варвара заплакала, и Анна снова перекрестилась и тоже заплакала.
Согласно акту караульного офицера в Темишваре, капитан русской армии Павел Исакович был принят Энгельсгофеном в воскресенье 28 августа 1752 года.
Он вошел к коменданту утром, а вышел от него, когда колокольный звон уже смолк. Что сказал Павел этому важному вельможе, которого сербские офицеры в Темишваре и Варадине почитали отцом родным, и что этот важный вельможа сказал достойному Исаковичу, для его родичей навсегда осталось тайной.
Павел слыл среди Исаковичей человеком неразговорчивым, даже молчуном. Чего, мол, распространяться да разглагольствовать о том, что все и так знают? Зачем, мол, вспоминать о том, что уже миновало? Все мы смертны, все покинем этот мир, кто раньше, кто позже, и поэтому то, что прошло, теряет всякий смысл. Словно его и не было.
А уж слова вовсе никакой цены не имеют.
Однако уже в России братья как-то навалились на Павла у него дома, в Бахмутском уезде, и упросили рассказать о своей последней встрече с фельдмаршал-лейтенантом.
Аудиенция состоялась не на квартире Энгельсгофена, а в штабе корпуса, на главной площади Темишвара, где стояло изваяние святой Троицы. Какое-то время он ждал в приемной в окружении кирасиров, которые бросали на него злобные взгляды, словно хотели изрубить на куски, и громко, чтобы он слышал, поминали капитана Терцини. А он, уставясь в окно, смотрел, как перед штабом сменялся караул, и с важным видом поглаживал усы, сидя на стуле, будто на троне.
Ему, признавался он, доставляло большое удовольствие расхаживать по Темишвару в качестве русского офицера. Вероятно, было уже половина двенадцатого, когда его, словно под охраной, повели к Энгельсгофену.