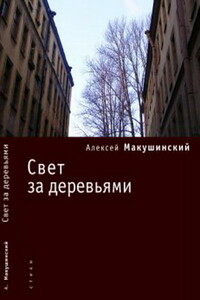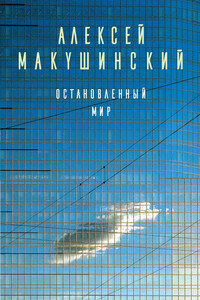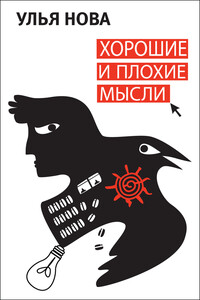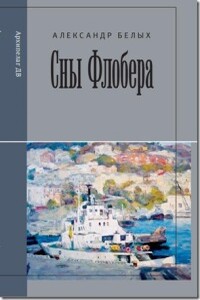стало казаться (я встречал людей, которым всерьез так казалось), что есть некая позиция, избавляющая их от необходимости отвечать на главные вопросы жизни, даже ставить эти вопросы, что разговор о структурах, о бинарных оппозициях, об означающем и означаемом, синхронном и диахронном отменяет разговор о жизни, ее смысле (или отсутствии оного). Иными словами, появились учения, или течения, не собственно философские, но словно подменяющие собой философию – и предлагающие что-то вроде универсального кода жизни, ключа, подходящего ко всем дверям, отмычки для любого замка. Вдруг выяснилось, или почудилось, что не надо, незачем, да и смешно, в сущности, вступать в диалог с философской традицией, с мыслителями прошлого, противопоставлять им какое-то свое мнение (Шопенгауэр-де думал вот так, а я, Вася Пупкин, думаю по-другому; кто ты такой, Петя Пупочкин, чтобы спорить с Шопенгауэром, вести беседу с Платоном?), а надо смотреть и судить
со стороны, анализировать и разбирать, вскрывать все те же бинарные оппозиции, стратегии, дискурсы, конструкты и деконструкты, и тогда, Вася Пупкин, мы над тобой смеяться не будем, а примем в свою компашку, и тебя, Петя Пупочкин, примем тоже, и обучим своему, то есть птичьему, чирик-чик-чик, языку, и будет теперь хорошо, приятно житься на свете, особенно на свете университетском, на универсисвете, и карьеру сделаешь, и кафедру получишь, и в Америку с лекциями поедешь, только не смей всерьез задумываться о мире и Боге, а если вдруг задумаешься, то, главное, не говори никому. Это позиция ироническая, потому выигрышная (ироническая позиция всегда выигрышная); рядом с ней все кажется наивным, следовательно – смешным. Ну куда вы со своим смыслом, своей бессмысленностью, своей истиной (или, не приведи Господь, Истиной…); вы что, еще не проснулись? вы проснитесь и повзрослейте, посмотрите вокруг себя: уже давным-давно никто не говорит ни о какой истине, но все говорят о денотатах и коннотатах; а что до ваших страданий, ваших криков отчаяния, то это не к нам, это к психоаналитику, соседняя дверь.

Флоренция, значит, и Запад (символически) подарили ему тот дом, в котором были написаны его лучшие книги. Символом, еще раз, может быть для нас что угодно; что мы захотим сделать символом, то им и будет. А потому и неважно (думал я, по-прежнему стоя перед изгородью и безлиственными виноградными лозами), что Бердяев ходил к Маритенам совсем не отсюда, и шел другой дорогой; в тот день, 29 марта, я еще не знал, да в общем-то и теперь не знаю, какой. Он мог ходить разными дорогами, в зависимости от погоды и настроения, один раз – поверху, по лесу, другой раз – здесь, по улицам, вдоль железной дороги. Я пойду тем путем, который предложила мне программа Google Maps; это и будет – мой путь. Мое символическое паломничество – непонятно к чему. Мы, еще (и еще) раз, вольны вкладывать в наши действия и поступки то значение, которое захотим вложить в них. Человек – создатель символов (думал я), а символ – что есть символ? Он темен и многолик, как мы только что слышали от Вячеслава Иванова; Бердяев же, в своих эстетических воззрениях до конца, по-моему, остававшийся человеком эпохи символизма, определял символ как мост, перебрасываемый из мира здешнего, ложного, в другой, тамошний, истинный, «к сокровенной, последней реальности» (вполне в духе знаменитого вячеслав-ивановского a realibus ad realiora, «от реального к реальнейшему»). Символ, по Бердяеву, «говорит не только о том, что существует иной мир, что бытие не замкнуто в нашем мире, но и о том, что возможна связь между двумя мирами, соединение одного мира с другим, что эти миры не разобщены окончательно. Символ и разграничивает два мира, и связывает их». В «сокровенную, последнюю реальность» я не верю; вообще не верю в какую-то