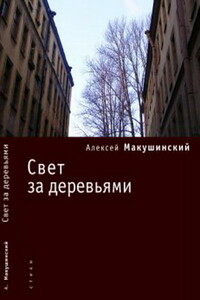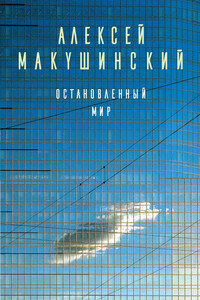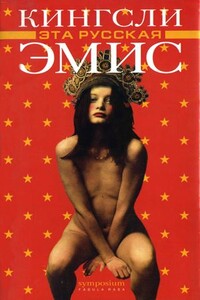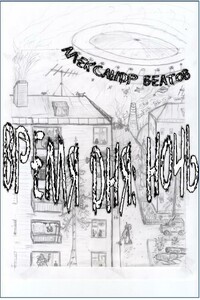Предместья мысли | страница 24
Как видим, «котик» не убегал, но прибегал. «Котик» был домашний; уже уехавшая к тому времени в Америку Извольская сообщает – полу в шутку, мне кажется, – что Бердяевы потому, среди прочего, остались в Кламаре под немцами, что кот не любил путешествовать. Это, конечно, иронический слушок, пробегавший туда-сюда в эмигрантской среде; но слушок характерный. На самом деле, Бердяевы попытались бежать, вместе с котом, но затем все же вернулись. «В июле 1940 года мы покинули Париж и уехали в Pilat, под Аркашоном. С нами ехал и Мури, который чуть не погиб в мучительном кошмарном пути, но проявил большой ум». Можете смеяться над умом кота, проявленном им во время бегства от немецкой оккупации; а по-моему, строки, посвященные в «Самопознании» этому самому коту Мури (Бердяев ограничивается одним «р»), принадлежат к лучшим (эпитетов вроде «трогательным» или «пронзительным» стараюсь вообще избегать, хотя здесь они, пожалуй, уместны) во всей книге; опять-таки не удержусь от цитаты: «Уже в самом начале освобождения Парижа произошло в нашей жизни событие, которое было мной пережито очень мучительно, более мучительно, чем это можно себе представить. После мучительной болезни умер наш дорогой Мури. Страдания Мури перед смертью я пережил, как страдание всей твари. Через него я чувствовал себя соединенным со всей тварью, ждущей избавления. Было необыкновенно трогательно, как накануне смерти умирающий Мури пробрался с трудом в комнату Лидии, которая сама уже была тяжело больна, и вскочил к ней на кровать, он пришел попрощаться. Я очень редко и с трудом плачу, но, когда умер Мури, я горько плакал. И смерть его, такой очаровательной Божьей твари, была для меня переживанием смерти вообще, смерти тех, кого любишь. Я требовал для Мури вечной жизни, требовал для себя вечной жизни с Мури. Я долгое время совсем не мог о нем говорить. Я все время представлял себе, что он прыгает ко мне на колени. Когда мы громко читали по вечерам, то Мури любил быть с нами, он всегда являлся, хотя бы спал в другой комнате, и прыгал ко мне на колени. Теперь нет уже читавшей Лидии, нет Мури, мы остались одни с Женей, она утешает мою жизнь. В связи со смертью Мури я пережил необыкновенно конкретно проблему бессмертия. В нашем саду, под деревом, могила Мури. Проходя мимо могилы, я думал о бессмертии конкретно-образно, а не отвлеченно. Мне противна идея безличного бессмертия, в котором исчезает все неповторимо и незаменимо индивидуальное».