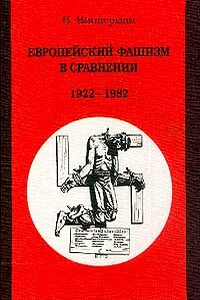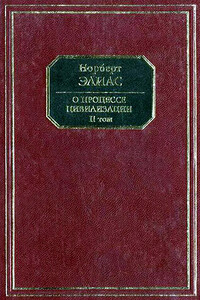Придворное общество | страница 89
Если такое «хорошее общество» отказывало своему члену в признании принадлежности к нему, если он утрачивал свою «честь», то он утрачивал конституирующий элемент своей личной идентичности. В самом деле, знатный дворянин довольно часто рисковал жизнью за свою «честь», предпочитая скорее расстаться с жизнью, чем с принадлежностью к своему обществу. Это означало, что жизнь для него без выделенности из окружающей толпы — пока оставалась в неприкосновенности власть привилегированного общества — не имела смысла.
«Мнение», которое имели о человеке другие, довольно часто решало здесь вопрос о жизни и смерти, причем зачастую не требовалось даже специального акта — такого, как, например, ритуальное лишение статуса, исключение из рядов или бойкот. Достаточную непосредственную действенность и «действительность» имело в этом случае единое мнение членов общества об отдельном его члене. Здесь мы имеем дело с иным типом того, что оценивается как общественная «реальность» в буржуазном обществе. Даже в его «хороших обществах» угроза лишить члена статуса или исключить его не утратила свою действенность. Однако, в конце концов, обладание капиталом, профессиональные функции и возможности профессионального заработка могут доставить человеку средства к существованию и обеспечить его «реальность», даже если он будет изгнан из буржуазного «хорошего общества». В городских обществах, и особенно в мегаполисах, у индивида, кроме того, имеются возможности уклонения от власти группы, которые лишают социальный контроль со стороны локального, городского «хорошего общества» большой доли той опасности и обязательности, которой он обладает в менее мобильных аграрных кругах или, тем более, в придворном элитарном обществе абсолютистской монархии, где от него просто никуда не скрыться[91]. В оценке придворной аристократии, как мы видели, обладание капиталом было, в конечном счете, средством для достижения цели. Оно имело значение, прежде всего, как условие сохранения общественной «реальности», средоточие которой составляла обособленность от массы людей, статус члена привилегированного слоя и подчеркивающее эту обособленность поведение во всех жизненных положениях, короче — знатность, барственность как самоценность.
Но сами финансовые возможности не конституировали здесь общественной «реальности», независимой от «мнения» других. Здесь принадлежность к обществу зависит от признания ее другими членами. Поэтому и мнение людей друг о друге, и выражение его в поведении людей относительно друг друга как формирующий и контрольный инструмент играют в этом «хорошем обществе» особую роль. Следовательно, ни один принадлежащий к обществу человек не мог уклониться от гнета мнения, не ставя тем самым на карту свою принадлежность к этому обществу, свою элитарную идентичность, средоточие своей личной гордости и своей чести.