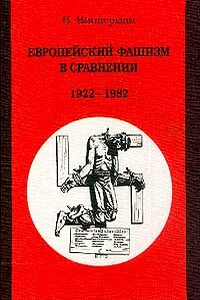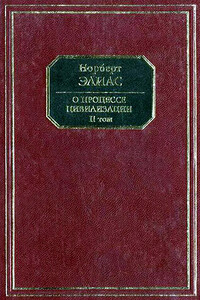Придворное общество | страница 33
В том, что касается исторической науки, заслуживает упоминания в заключение еще один момент. Историки исходят порою из убеждения, будто те комплексы событий, которые они стараются познать, представляют собою скопление, в сущности, не связанных между собою поступков отдельных людей, — сказали мы, — и поэтому социологически значимые феномены часто представляются взгляду историка лишенными всякой структуры фоновыми явлениями. Социологическое исследование придворного общества служит примером переориентации постановки проблем, отбора свидетельств и, на самом деле, всего способа восприятия — переориентации, которая оказывается необходимой, если мы такие явления, которые в традиционной исторической науке считаются фоновыми, выдвигаем на передний план исследования, признавая за ними специфическую структуру. Версальский двор и общественная жизнь придворных, конечно, довольно часто исследуются в исторических трудах. Но при их описании все обычно ограничивается скоплением деталей. То, что имеют в виду социологи, когда говорят об общественных структурах и процессах, историкам часто кажется искусственным продуктом социологического воображения. Эмпирические социологические исследования, подобные этому, представляют случай подвергнуть проверке это представление. В пределах самой исторической науки сегодня заметны сильные тенденции к тому, чтобы наряду с тем слоем человеческого универсума, который мы замечаем, когда обращаем взгляд на поступки отдельных недолговечных индивидов, включить в кругозор истории медленнее текущий слой фигураций, составляемых этими индивидами. Но для такого расширения общественно-исторического кругозора еще недостает теоретического аппарата — не в последнюю очередь потому, что сами историки в своей исследовательской работе часто думают обойтись без ясно сформулированных теорий. Маловероятно, чтобы в длительной перспективе можно было остановить процесс обогащения исторического способа научной работы социологическим. И не так уж важно, произойдет ли это расширение исторических перспектив благодаря усилиям социологов, историков или же благодаря сотрудничеству двух дисциплин.
Наконец, третий пункт, который стоит подчеркнуть в конце данного введения, теснейшим образом связан с двумя другими. В начале мы поставили вопрос, какие особенности прежней историографии приводят к тому, что историю то и дело переписывают заново. Отвечая на него, мы указали на различие между высоким стандартом научно-исторического документального подтверждения деталей и высокой степенью достоверности знания, которое на основе этого стандарта можно получить о деталях истории, с одной стороны, и гораздо более низким стандартом научно-исторического истолкования взаимосвязей между этими деталями и, соответственно, меньшей степенью достоверности знания об этих взаимосвязях, с другой стороны. Запас надежного конкретно-исторического знания растет, но прирост надежного знания о взаимосвязях деталей за этим ростом не поспевает. Поскольку для традиционных историков не существует никакой надежной базы для истолкования взаимосвязей в истории, оно остается в значительной мере отдано на произвол исследователей. Пробелы в знании о взаимосвязях между хорошо документированными деталями вновь и вновь заполняются с помощью интерпретаций, определяемых сиюминутными оценками и идеалами исследователей. Эти оценки и идеалы, в свою очередь, меняются вместе со сменой злободневных вопросов их эпохи. Историю каждый раз переписывают заново, потому что взгляд исследователей на взаимосвязи между известными из источников фактами предопределяется отношением их к вненаучным проблемам эпохи.