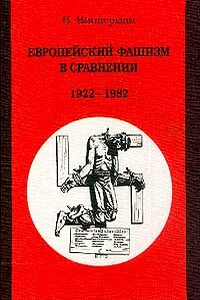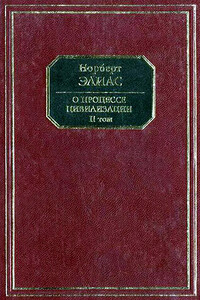Придворное общество | страница 20
Придворное общество — предмет настоящей книги — и есть такое элитное образование. В этом исследовании вы найдете несколько примеров, которые иллюстрируют только что сказанное. Индивиды, не принадлежавшие в эпоху правления Людовика XIV к придворному обществу или не нашедшие к нему доступа, имели сравнительно мало шансов продемонстрировать и реализовать свой индивидуальный потенциал деяниями, которые с точки зрения традиционной историографической шкалы ценностей могли бы считаться достойными упоминания в истории. С помощью более углубленного исследования такого рода элиты можно, к тому же, достаточно точно выяснить, каким образом ее структура предоставляла или не предоставляла отдельным людям их индивидуальные возможности для свершений и самореализации. Герцогу Сен-Симону, например, поскольку он был представителем высшей знати, но не принадлежал к дому Бурбонов, в соответствии со стратегией Людовика XIV, соответствовавшей его королевской позиции, доступ к правительственным должностям и вообще к любому официальному политическому посту, сопряженному с властью, был закрыт. А именно к такого рода позиции Сен-Симон всю свою жизнь стремился. Он надеялся, что именно здесь — как государственный муж, как политик, как человек правительствующий — сумеет реализовать себя. Он ожидал, что в этих позициях совершит нечто великое. Поскольку в силу его положения в структуре двора такая возможность была закрыта для него все время, пока жив был Людовик XIV, Сен-Симон пытался, помимо участия в придворных закулисных интригах, достичь самореализации, прежде всего, посредством писательской деятельности в той ее форме, которая соответствовала привычкам и вкусу придворной знати: он писал воспоминания, в подробностях фиксируя жизнь при дворе. Будучи оттеснен от политической власти, он, как говорится, вошел в историю иным способом — как великий мемуарист. Ни развитие его индивидуальности, ни развитие его писательского взгляда невозможно понять, не соотнеся их с социологической моделью придворного общества и не зная истории его общественного положения в структуре распределения власти при дворе.
В традиционной историографии, когда спорят о роли личности в истории, исходят порой из того допущения, что противоречия между теми · историками, которые в исследовании исторических феноменов сосредоточивают внимание на «индивидуальных явлениях», и теми, которые концентрируют его на «явлениях общественных», есть противоречия непримиримые и неизбежные. Но на самом деле это абсолютно нереальная антиномия. Ее можно объяснить лишь в связи с двумя политически-философскими традициями, из которых одна постулирует «общество» как нечто внеиндивидуальное, а другая — «индивида» как нечто внеобщественное. Оба эти представления суть фикции. Здесь мы это видим. Придворное общество не есть феномен, существующий вне индивидов, которые его составляют; а эти индивиды, будь то король или камердинер, не существуют вне того общества, которое они все вместе составляют. Понятие «фигурации» служит для того, чтобы выразить это обстоятельство. Употребление традиционных слов мешает нам вести речь об индивидах, которые объединяются в общества, или об обществах, состоящих из отдельных людей, — хотя это именно то, что мы можем наблюдать в действительности. Если использовать несколько менее нагруженное слово, легче будет ясно и отчетливо проговаривать то, что мы наблюдаем. Именно так и происходит в том случае, когда мы говорим, что отдельные люди вместе образуют фигурации различного рода или что общества суть не что иное, как фигурации взаимозависимых людей. Сегодня в этом контексте часто пользуются понятием «системы». Но покуда мы не мыслим социальные системы как системы, состоящие из людей, мы, пользуясь этим словом, парим в безвоздушном пространстве.