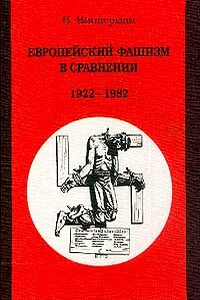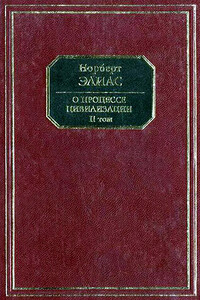Придворное общество | страница 12
Вовсе не так просто показать, что я имею в виду, когда говорю, что нужно сознательное усилие, чтобы обеспечить большую степень автономии отбора и формулировки социологических проблем (независимо от того, относятся ли они к современности или к прошлому) от принимаемых как сами собой разумеющиеся и потому не проверяемых расхожих оценок. Но вот один пример. Если мы ставим себе задачу приблизиться к объяснению и пониманию того, как люди могут быть по-разному связаны друг с другом, то все типы взаимоотношений, в которые люди вступают, все общественные фигурации равноценны. Здесь мы вновь, в несколько более широком смысле, сталкиваемся с тем, о чем говорил Ранке, когда отмечал фундаментальную равноценность всех периодов истории. Он тоже по-своему пытался указать на то, что исследователи, которые хотят понять взаимосвязи между людьми, сами закрывают себе подступ к предмету, если руководствуются при этом предвзятыми оценками, принадлежащими их собственной эпохе и их собственной группе. Адекватное и компетентное исследование любого социального образования, любого объединения людей, будь то большого или малого, принадлежащего давно прошедшим временам или современности, может содействовать расширению и углублению нашего знания о том, как люди во всех ситуациях связаны друг с другом — в мышлении и в чувстве, в ненависти и в любви, в действии и в бездействии. И невозможно представить себе такую социальную фигурацию, изучение которой было бы в большей или в меньшей степени важно, чем изучение какой-то другой. Изменчивость этих человеческих взаимосвязей так велика и так многообразна, что — по крайней мере, при малом объеме и неполноте нашего нынешнего знания — невозможно представить себе такого компетентного исследования некой еще не изученной социальной фигурации и процесса ее становления, которое не давало бы чего-то нового для понимания человеческого универсума, для понимания нас самих.
Итак, если мы занимаемся вопросом о взаимном отношении историографии и социологии, то часто упоминавшаяся проблема неповторимости исторических событий занимает центральное место. Представление, согласно которому неповторимость и уникальность событий есть отличительная характерная черта человеческой истории, предмета историографии, часто сочетается с представлением, согласно которому эта «неповторимость» обусловлена природой объекта, т. е. заключена в самом предмете независимо от всех ценностных предпочтений людей, которые его изучают. Но это совершенно не так. Если то, что в настоящее время исследуют как «историю», обыкновенно рассматривают как собрание единственных в своем роде данных, то происходит это по той причине, что самым главным в подлежащих исследованию событийных рядах считаются события, которые уникальны и неповторимы. Иными словами, это основано на определенной оценке. Она легко может показаться естественной. Но, возможно, будет лучше сознательно присмотреться к ней и проверить ее правомерность.