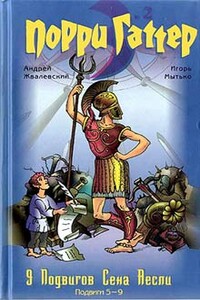Славяне и варяги (860 г.) | страница 8
— Чей ты, малец? — спросил он ласково у ребенка, игравшего одиноко поодаль от других детей.
— Я перунов, — отвечал мальчик, спокойно налаживая какую-то нехитрую западню для ловли чижей. — Меня нельзя трогать, отойди.
— А твой отец кто? — спросил опять странник.
— Отец — Стемир, а мать — Любуша, — отвечал ребенок.
— Старые друзья! — сказал про себя странник, — а где ваш дом?
Мальчик тотчас бросил свою игру и побежал к дому, крича радостно: — Мать! Мать! К нам гость идет! — и очень рад был, что избавился от странника, наводившего на него страх.
Красавица Любуша показалась на пороге своей избы и низким поясным поклоном приветствовала гостя, придерживая одною рукой сынишку, который крепко зацепился за ее подол.
— Добро пожаловать, странник, — сказала она приветливо и дружелюбно, — хозяина нет, но и без него Дажбог поможет мне почествовать гостя.
В ту пору, как и теперь, славяне были очень гостеприимны; это требовалось обычаем и было тоже не без приятности. Наши предки жили отдельными родами, сносились с соседями очень редко и мало знали о том, что делается на свете. Гость, прибывший из далеких стран, своими рассказами приносил новые вести, от этого как-то светлее становилось и узнавалось то, чего прежде не знали; от этого гостя принимали всегда с почетом и с удовольствием. Славянину, по обычаю, позволялось даже украсть, если это было нужно для приличного угощения странника.
Гость поклонился ей не так низко и торжественно, медленно осенил ее крестным знамением. Любуша смотрела на него с удивлением и приняла сделанный им знак за какой-то неведомый для нее прием волхвования. Однако, при этом она узнала старого знакомца.
— Уж не Рангвальд ли ты, старый приятель? — спросила она, всматриваясь в знакомое, но сильно измененное худобою лицо гостя.
— Я был, правда, Рангвальдом, — отвечал он неторопливо и спокойно, — когда еще благодать Божия не осенила мой бедный разум, а ныне во святом крещении раб Божий Родион.
Пока Любуша приготовляла ему ржаные лепешки и жарила окуней, Родион расспрашивал ее о сродниках, о том, что делает Богомил, давно ли вернулся Стемир, что делает добрая вещунья Предслава и две ее внучки; узнал и причину войны, которая затеялась с соседями, узнал и о Людмиле, молодой жене Путши (ведь мальчишкой был, как я собрался в Царьград), а когда речь дошла до того, отчего сынишка ее зовет себя перуновым, Любуша рассказала ему вот что:
— Это все по злобе Богомиловой жены вышло; она давно меня недолюбливает, а Стемира не было с нами: его варяги захватили и угнали с собой в Греки. Богомилова-то жена бездетная, а у меня Хоринька-то вонь какой красавчик, купавый; и задумала она его погубить. Весною, в праздник Красной Горки, она возьми да и шепни Богомилу, что Хориньку моего надо принести в жертву Перуну; он, видишь ты, любит лучшую жертву. По слову Богомила, мир и выбрал Хориньку. Я — бежать. И знаю я, что малец мой русалочкой блаженной будет, Чуром праведным и могучим, что богу Перуну-Сварогу угодна будет такая жертва, да мне как без него быть? Ведь полоснут кривым ножом по этой-то беленькой шейке, и поднимут на колесо, и зажгут костер, и повалит дым, и затрещит костер, запылает, а народ мерно, по песне, забьет в ладоши. Каково это матери-то? Ушла я с Хоринькой в лес; вече нашу избу сожгло, вместо Хориньки зарезали белого козленка, а сынок мой теперь не наш, а перунов. Если гром его в это лето не убьет, так он опять будет наш.